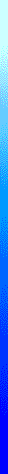
|
|
И. С. Свенцицкая
ТАЙНЫЕ ПИСАНИЯ
ПЕРВЫХ ХРИСТИАН
(Публикуется по изданию: Свенцицкая И. С. Ранее
христианство: страницы истории. — М.: Политиздат, 1987. —
Стр. 183—326.)
СОДЕРЖАНИЕ
Новый Завет и апокрифы
Сколько "священных" книг почитали первые христиане?
Первые записи христианского учения
Отбор "священных писаний"
Ранниие апокрифы: речения и евангелия
Неканонические речения в христианской литературе
Логии из Оксиринха
Иудеохристианские евангелия
Писания Петра и "Пастырь" Гермы
Евангелие Петра
Апокалипсис Петра
"Пастырь" Гермы
Борьба течений в христианстве II в.
Учение о логосе
Христиане-гностики
Монтанисты
Евангелия из Хенобоскиона
Христианство в Египте
Евангелие истины
Евангелие Филиппа
Евангелие Фомы
Апокрифические сказания о детстве Иисуса и евангельских персонажах
Евангелие детства
Сказания о Марии
Оправдание Понтия Пилата
Заключение
НОВЫЙ ЗАВЕТ И АПОКРИФЫ
СКОЛЬКО "СВЯЩЕННЫХ" КНИГ ПОЧИТАЛИ ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ?
Историк, интересующийся возникновением христианства, становлением его
вероучения, должен изучить самые разнообразные источники: произведения античных
писателей, которые упоминали о христианах, сочинения христианских богословов и
их противников, а также, конечно, те книги, которые сами христиане почитают
священными и боговдохновенными, где изложены основные догмы христианской
религии, легенды о жизни ее основателя — Иисуса, приведены его слова и
поучения. Какие же книги называли священными первые христиане, жившие в Римской
империи в I—II вв.? На первый взгляд ответ на этот вопрос прост: это те же
самые книги, которые христианские церкви и поныне почитают таковыми, т. е.
произведения, включенные в Новый завет: четыре евангелия (от Матфея, от Марка,
от Луки и от Иоанна), Деяния апостолов, двадцать одно послание апостолов
(автором четырнадцати из них считается Павел; среди остальных семи, так
называемых католических или соборных, адресованных всем христианам, — одно
послание Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна, одно послание Иуды);
последнее по порядку расположения произведение Нового завета — Апокалипсис
(Откровение) Иоанна.
Научная литература, посвященная Новому завету, огромна[1]. Исследователи стремятся установить время и место
создания отдельных его книг, ставят вопросы об их авторстве, источниках,
выявляют противоречия, содержащиеся в этих книгах. Уже сам состав Нового
завета, каким бы привычным он ни казался, вызывает целый ряд вопросов. За
исключением евангелий (в основном трех первых) и посланий Павла (и то не всех),
произведения Нового завета и по жанру, и по содержанию слабо связаны друг с
другом. Послания апостолов представляют собой самостоятельные произведения,
написанные по разным поводам. Среди посланий, в том числе и среди посланий
Павла, наряду с пространными рассуждениями о вероучении, нормах поведения, об
организации христианских общин есть письма, адресованные частным лицам по
частным поводам. Например, в письме Павла некоему Филимону говорится о беглом
рабе последнего, христианине Онисиме, которого Павел просит принять обратно.
Или совсем маленькое третье послание Иоанна, адресованное Гаю, где автор письма
хвалит адресата за верность, мимоходом упоминает какого-то Диатрефа, который
"не принимает нас". Никаких догматических, никаких
религиозно-этических положений в этом послании не раскрывается; письмо написано
по конкретному поводу, не вполне ясному из содержания письма. Особенно резко от
остальных произведений Нового завета по образному строю, языку и даже по
религиозным представлениям отличается Апокалипсис Иоанна, рисующий устрашающие
картины суда божия над человечеством.
Как случилось, что все эти разнородные произведения были объединены и
признаны священными? Были ли включены в Новый завет все христианские писания,
созданные в первые века существования христианства? Или, может быть, только
наиболее ранние из них, так сказать освященные ореолом давности? Когда
произошло это "освящение"?
Современная наука может с достаточной определенностью ответить на эти
вопросы. Мы знаем, что произведения, входящие в Новый завет, некогда были лишь
частью обширной христианской литературы I—II вв.: евангелий, откровений,
посланий, деяний отдельных апостолов. В самом Новом завете содержатся некоторые
прямые и косвенные указания на существование такой литературы, а также,
возможно, устной традиции, не использованной в четырех евангелиях.
Евангелие от Луки, третье по порядку расположения в Новом завете, начинается
словами: "Как уже многие начали составлять повествования о совершенно
известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала
очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный
Феофил". Итак, во время написания третьего евангелия составлялись или были
уже составлены многие подобные произведения. Само содержание апостольских
посланий в Новом завете показывает, что они не могли быть единственными
произведениями такого рода; в послании Павла к коринфянам, которое названо
первым, есть упоминание о предшествующем послании (там сказано: "Я писал
вам в послании..."). В третьем послании Иоанна также есть ссылка на ранее
посланное письмо, которого не послушался некий деятель ("любящий
первенствовать у них") Диатреф.
Источником всех сведений о жизни и поучениях Иисуса церковная традиция
считает четыре новозаветных евангелия. Между тем анализ посланий Павла
показывает, что в них встречаются изречения Иисуса и трактовка его образа,
отличные от тех, которые есть в этих евангелиях. Например, в послании к
филиппийцам сказано: "Но уничижил себя самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек" (2:7). В
евангелиях, включенных в Новый завет, нет упоминаний о том, что Иисус принял
образ раба; даже если воспринимать текст послания иносказательно, то в нем
отражено отличающееся от евангельского восприятие Христа, принявшего
человеческий облик, по виду сделавшегося "подобным людям". Согласно
каноническим евангелиям, Иисус — богочеловек, обладавший и божественной и
человеческой сущностью. В первом послании Павла к фессалоннкийцам приводится
"слово господне" о воскресении из мертвых, которого нет среди речений
Иисуса, содержащихся в новозаветных евангелиях. Подобные примеры можно найти и
в Деяниях апостолов (20:35): "ибо он сам сказал: "блаженнее давать,
нежели принимать". Следовательно, евангелия от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна не были единственными, где приводились поучения Иисуса: авторы посланий
и Деяний апостолов знали иные его изречения, услышанные ими или прочитанные в
каких-то не дошедших до нас сочинениях.
У христианских писателей II в., которые защищали и систематизировали
новое учение, встречается еще больше указаний на христианские писания и
сказания, отсутствующие в Новом завете. В середине II в. писатель Юстин
адресовал правившим тогда императорам специальное произведение, рассказывавшее
о сущности христианства и защищавшее его от нападок язычников. Юстин в качестве
основного источника сведений об Иисусе называет "воспоминания
апостолов". Речь идет об евангелиях, но о каких?[2] Рассказывая о суде над Иисусом, Юстин ссылается на
слова апостола Петра (Апология I .35). В Новом завете нет
свидетельств Петра о жизни Иисуса и судебном процессе над ним, однако таковые
наверняка существовали, раз Юстин ссылается на них. В другом своем
произведении, "Разговор с Трифоном-иудеем", Юстин упоминает, что
Иисус делал земледельческие орудия, — подробности, отсутствующие в четырех
евангелиях (в Евангелии от Марка Иисус назван просто плотником).
У более поздних писателей (начиная с конца II в.) прямо называются
многие христианские произведения, которых нет в Новом завете, и приводятся
цитаты из них. Особенно много упоминаний о таких произведениях у Иринея
(конец II в.), епископа города Лугудуна (современный Лион) в Галлии.
Ириней написал сочинение "Против ересей", где он выступает за почитание
четырех евангелий — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, отстаивает их святость и
осуждает писания различных христианских групп. Он с возмущением пишет о людях,
которые "приводят несказанное множество тайных и подложных писаний".
В произведениях христианских богословов и философов, живших на рубеже
II и III вв., таких, как Ориген и Тертуллиан, также упоминаются
христианские сочинения, отсутствующие в Новом завете, делаются ссылки на них
или ведется полемика с ними. Проблему "священности" (подлинности)
различных книг разбирает и Евсевий, написавший в IV в. "Церковную
историю".
Об отношении всех этих писателей к сочинениям, о которых они рассказывают,
мы скажем немного позже. Сейчас отметим только одно: по свидетельству самих
христиан, в первые века существования и распространения, нового учения его
последователи и проповедники почитали самые разные произведения, авторами
многих из которых считались ученики Иисуса. Существовали, наряду с
новозаветными евангелиями, евангелия Петра, Андрея, Варфоломея, Иакова, Филиппа,
два Евангелия Фомы, совершенно различные по содержанию. Кроме того, были
евангелия, именовавшиеся по названиям тех групп, которыми они почитались (хотя
вряд ли это были их подлинные названия): Евангелие евреев, т. е. христиан,
продолжавших соблюдать иудейские обряды; Евангелие эбионитов, Евангелие
назореев. По словам Иринея, некоторые христиане "дошли до такой дерзости,
что назвали свое сочинение Евангелием Истины".
По-видимому, существовали и разные версии некоторых новозаветных евангелий:
Ириней говорит, что христиане, называвшие себя эбионитами, пользовались только
Евангелием от Матфея, но их учение расходилось с тем, что изложено в
соответствующем новозаветном евангелии. Вероятно, эбиониты почитали какое-то
особое евангелие или другую версию новозаветного. Известно, что существовала
версия Евангелия от Матфея, написанная на арамейском языке — разговорном языке
ряда областей Ближнего Востока, в том числе и Палестины. У писателя первой
половины II в. Папия (его цитирует Евсевий) сказано: "Матфей записал
беседы господа на еврейском языке (имеется в виду арамейский язык. — И. С.),
а переводили их кто как мог". В письме Климента, епископа
Александрийского, написанном около 200 г., говорится, что в Александрии
имели хождение сразу три евангелия от Марка: обычная версия (включенная в Новый
завет), "подложное" евангелие, написанное неким Карпократом, и тайное
евангелие, якобы написанное самим Марком для избранных.
Кроме евангелий в произведениях христианских писателей упоминаются и другие
не вошедшие в Новый завет книги, претендовавшие на "священность":
Апокалипсис Петра, деяния отдельных апостолов, послания апостолов (например,
послание Павла к лаодикейцам). Учение двенадцати апостолов (Дидахе),
"Пастырь" Гермы, принадлежащий к жанру откровений.
Защитники христианства, полемизируя с этими сочинениями, цитировали или
пересказывали многие из них. Но сведения, приводимые ими, отрывочны и не всегда
достаточно точны: эти писатели путали разные произведения, объединяли их, а
подчас сознательно искажали их содержание. И вряд ли бы мы знали больше, чем их
названия и отдельные фразы из них, если бы не археологические открытия, которые
дали в руки ученых значительные отрывки и даже целые сочинения христиан первых
веков нашей эры, не признанные современной церковью.
Такие открытия были сделаны прежде всего в Египте. Там сохранилось много
письменных памятников прошлого: художественные произведения, научные трактаты,
частные письма, арендные договоры. При археологических раскопках были найдены
также папирусные фрагменты новозаветных евангелий и ряда других христианских
произведений. В 1897 г. в Оксиринхе среди множества записей, сделанных на
папирусе, были обнаружены восемь изречений на греческом языке, каждое из
которых начиналось словами: "Говорит Иисус". В 1904 г. в том же
Оксиринхе было открыто еще шесть изречений. Некоторые из них оказались
полустертыми, но те, что удалось полностью прочесть, показали огромную ценность
для науки собрания речений, или логий, как они назывались по-гречески. Эти
речения расходились иногда по существу, иногда в деталях с речениями
новозаветных евангелий. В 1905 г. (тоже в Египте) был обнаружен маленький
листочек, исписанный микроскопическими буквами, который служил, по-видимому,
своеобразным амулетом. По прочтении текста выяснилось, что это отрывок из
какого-то неизвестного евангелия, содержащий описание посещения храма Иисусом и
его учениками и конец речи Иисуса. Еще раньше, в конце XIX в., в одной из
могил в Ахмиме (Египет) был найден отрывок из Евангелия Петра, содержащий
описание суда над Иисусом, его казни и воскресения. Вместе с этим отрывком был
обнаружен Апокалипсис Петра.
Наиболее интересные и важные открытия были сделаны в Южном Египте в
1946 г. Феллахи, выполнявшие земляные работы у подножия горы Гебель-эль
Тариф на левом берегу Нила, недалеко от древнего поселения Хенобоскион (совр.
Наг-Хаммади), неожиданно обнаружили тайник. В тайнике оказалась целая
библиотека — более сорока текстов религиозного содержания на коптском языке[3], — принадлежавшая особой группе
христиан — христианам-гностикам (об их учении мы расскажем ниже). Найденные
списки относятся к III—V вв., но сами произведения, во всяком случае
многие из них, были написаны значительно раньше на греческом языке и затем уже
переведены на коптский. Среди найденных в Хенобоскионе рукописей — три полных
текста евангелий: от Фомы, от Филиппа и Евангелие Истины — по всей вероятности
то самое, о котором с возмущением писал Ириней.
Произведения, включенные в Новый завет, церковь считает каноническими, а все
остальные сочинения христиан I—IV вв., написанные в тех же жанрах, —
апокрифическими, т. е. тайными. Слово "канонический" происходит
от греческого "канон", употреблявшегося в разных смыслах:
ремесленники так называли прямой брус и измерительную веревку, в переносном
смысле слово "канон" употреблялось в значении определенного
стандарта, нормы, критерия, правил поведения. В сфере искусства и литературы
каноном назывался образец, совершенная модель. Так, например, грамматики из
египетской Александрии создали перечень греческих авторов, чей язык
рассматривался как образец (канон), с которым следует сравнивать тексты всех
остальных писателей. В христианскую литературу это слово пришло от язычников. В
Послании Павла к галатам (6:15) канон — это правило поведения: "Ибо во
Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (в
смысле — "творение". — И. С.). Тем, которые поступают по
сему правилу (в греческом тексте — канону. — И. С.), мир им и
милость..." Никакого канона как сборника священных книг автор этого
послания еще не знал. Только с середины IV в. это слово стало применяться
к священным книгам христиан, ставшим образцом, с которым следует сверять все
высказывания, поступки, проповеди.
Название "Новый завет" по отношению к собранию канонических книг
также стало применяться значительно позже их написания, хотя само понятие
Нового завета, или Нового союза (имеется в виду союз с богом), восходит к
иудейским сектантам, жившим во II в. до н. э. — I в. н. э.
недалеко от Мертвого моря, в районе Кумрана, которые называли свою общину Новым
союзом. Эти сектанты были предшественниками христиан, и их идея "нового
союза" между богом и людьми (в отличие от союза, заключенного, согласно
Библии, между богом и народом Израиля) на основе нового откровения — нового
завета была воспринята христианами. Словосочетание "новый завет"
применительно к христианским писаниям начало употребляться с конца II в.;
впервые, по-видимому, оно было использовано в этом значении в произведении
анонимного автора, направленном против одной из христианских групп —
монтанистов. Это произведение упоминается у Евсевия.
Когда только строго определенные христианские сочинения были признаны
священными, подлинными, боговдохновенными, то именно они стали восприниматься
как выражение нового союза с божеством, как "новый завет".
Неканонические книги стали считаться тайными, апокрифическими тоже в конце
II в. Появилось это название в период борьбы основных христианских течений
с распространенной во II в. группой христиан-гиостиков. Гностики сами
называли свои писания секретными, тайными, применяли в своих записях
криптограммы (тайна, связывающая знающих ее, понятная только избранным, вообще
играла значительную роль в мироощущении первых христиан). В начале Евангелия от
Фомы, найденного в Хенобоскионе, сказано: "Вот тайные слова..." Мы
уже говорили о "тайной" версии Евангелия от Марка, которая почиталась
некоторыми христианами в Александрии. Именно эта "секретность" и дала
основание Иринею, автору книги "Против ересей", назвать сочинения
гностиков апокрифами; а так как он полемизировал с гностиками, то их сочинения
были для него не только тайными, но и подложными. Такое же словоупотребление
(тайные — подложные) встречается у Тертуллиана, христианского философа, жившего
на рубеже II и III вв. После установления состава канонических
книг ко всем не включенным в канон сочинениям, написанным от имени учеников
Иисуса, стало применяться название "апокрифы", хотя многие из них
никогда не были тайными, а почитались открыто в отдельных христианских общинах.
Отбор "священных" книг, разделение их на канонические и
апокрифические было длительным и сложным процессом.
ПЕРВЫЕ ЗАПИСИ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ
Когда первые, еще очень малочисленные христианские группы появились в
городах Римской империи (сначала в Палестине, а затем в соседних восточных
провинциях), они меньше всего думали о записи своего учения. Да и учения в
точном смысле слова еще не было. Бродячие христианские проповедники
рассказывали о помазаннике божием Иисусе, распятом и воскресшем. Одни говорили,
что слышали об Иисусе от очевидцев и его учеников, другие — что слышали от тех,
кто слышал очевидцев. Так складывалась устная христианская традиция.
Примерно около полувека христианство распространялось прежде всего благодаря
устным проповедям и рассказам. Само слово "евангелие" (благовестие)
не имело первоначально в представлении христиан специфического значения
писаного произведения. Существование устного "благовестия" отразилось
и в первых христианских сочинениях, в частности в посланиях Павла. В Послании к
галатам автор упрекает христиан Галатии в том, что они перешли к "иному
благовествованию" (в греческом тексте — евангелию), "которое,
впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово (т. е. превратно излагающие
"благовестие". — И. С.)". Автор послания предает
проклятию тех, кто "благовествует" иначе, чем он, и добавляет:
"Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое"
(1:6-7,11). Сходное словоупотребление встречается во Втором послании к коринфянам
(11:4): "... если бы кто, придя, начал проповедовать... иное
благовестие (евангелие. — И. С.) ..." В Послании к
римлянам сказано: "В день, когда, по благовествованию моему, бог будет
судить тайные дела человеков..." (2:16).
Ясно видно, что для автора посланий евангелие не писание, а проповедуемое
странствующими пророками "благовестие" о Христе и его миссии. Из
посланий следует также, что содержание таких благовестий-евангелий было
различным у разных проповедников.
Само слово "евангелие", которое кажется специфически христианским,
могло прийти в христианство из языческого окружения: греческое слово
"евангелие" употреблялось при прославлении римских императоров. В
надписях I в. до н. э., обнаруженных в двух малоазийских городах, император
Август назван спасителем (сотером); там сказано, что рождение бога (т. е.
Августа) стало началом "благовестий" (евангелий), связанных с ним.
Христиане не признавали культов, официальных и неофициальных, которые
существовали в Римской империи, противопоставляя им свою веру в иного бога. Они
поклонялись не властителю, а плотнику, не восседающему на троне, а распятому на
кресте, как раб и преступник... Противопоставляя себя миру язычников,
отмежевываясь от него, христиане оперировали его представлениями, его
терминологией, мыслили, по существу, в тех. же понятиях, только
"переворачивая" и переоценивая их. Например, спасителем мира в
официальных надписях называли императора, для христиан им стал Иисус, а вместо
евангелий о событиях из жизни Августа для христиан стал евангелием указанный их
мессией путь к спасению. "Возвещали" евангелие странствующие пророки
и апостолы, о которых говорится в Дидахе (Учении двенадцати апостолов) —
руководстве по внутренней жизни христианских общин, написанном в начале
II в. Как правило, такие пророки и апостолы проводили в каждой общине два
дня, а затем шли дальше, взяв хлеба на дорогу. Они продолжали ходить и
проповедовать и когда появились первые писания. Мы знаем, что некоторые
христиане предпочитали устную традицию записанной. Евсевий в "Церковной
истории" приводит слова писателя Папия, жившего в первой половине
II в., который собирал именно устные предания: "... если мне
случалось встречать кого-либо, общавшегося со старцами, то я заботливо
расспрашивал об учении старцев, например, что говорил Андрей, что — Петр, что —
Филипп, что — Фома или Иаков... Ибо я полагал, что книжные сведения не столько
принесут мне пользы, сколько живой и более внедряющий голос".
Длительное господство устной традиции объясняется и особенностями самого
христианского учения, и общественной психологией всей окружающей христиан
среды. Для первых последователей христианства "священным писанием"
были только книги иудейской Библии — Ветхого завета. Для грекоязычных
проповедников священным текстом был перевод Библии на греческий язык,
осуществленный в Египте в III в. до н. э. жившими там иудеями (так
называемая Септуагинта — перевод семидесяти). Септуагинта была почитаема
иудеями, жившими вне Палестины, многие из которых уже не знали древнееврейского
языка. Использование Септуагинты делало понятными самому широкому кругу
слушателей цитаты из священных иудейских книг, которые приводились
христианскими проповедниками. В проповедях христиане неизменно ссылались на
авторитет библейских книг, в особенности на авторитет пророчеств. Эти ссылки
затем были включены и в евангелия: там часто, например, встречается выражение
"да сбудется реченное через пророков" при описании тех или иных
событий из жизни Иисуса. Авторы евангелий стремились таким образом доказать,
что ветхозаветные пророчества о мессии относились именно к Иисусу. Существуют в
Новом завете заимствования и из других книг Ветхого завета. Святость
"закона и пророков", как обычно христиане обозначали иудейские
религиозные книги, не позволяла им писать новые "священные" книги.
В науке существует точка зрения (правда, не общепринятая), что первыми
христианскими записями были сборники цитат из Ветхого завета, прежде всего тех,
где речь шла об ожидаемом мессии (так называемые свидетельства — тестимонии).
Но не только "священность" древних библейских писаний
предопределяла преимущественно устный характер проповеди нового религиозного
учения. В античном мире роль устного слова вообще была исключительно велика.
Рукописные книги были дороги и малодоступны, да и уровень грамотности за пределами
древних городских центров был не столь высок. Но главное все же было не в этом.
Всюду, где в древности существовали самоуправляющиеся коллективы — общины или
города-государства, устными выступлениями пользовались очень широко: речи
произносились в народных собраниях и на заседаниях городских советов; от умело
построенной речи, произнесенной в судебном заседании, часто зависел исход дела.
Речи всегда были обращены к коллективу, прежде всего к коллективу граждан. Они
не просто несли информацию, а были рассчитаны на возбуждение определенной
реакции слушателей. Такое совместное слушание сплачивало людей, создавало
ощущение их причастности к "общему делу". Писатель II в. Лукиан
передает легенду о том, что "отец истории" Геродот приехал на
Олимпийские игры и там стал читать свою историю. Сам Лукиан также отправился в
Македонию, чтобы рассказать о своих произведениях. И в городах, потерявших свою
независимость в составе Римской империи, продолжало существовать публичное
красноречие: там были свои любимые ораторы и философы, свои
"златоусты", хотя часто выступления их сводились к восхвалению
императоров.
Первые христиане, среди которых было много людей, не входивших в гражданский
коллектив городов, в которых они жили, — переселенцев, вольноотпущенников,
рабов, не признавали официальных публичных торжеств, религиозных празднеств, но
и эти люди, собираясь где-нибудь за городом или в опустевших ремесленных
мастерских, ощущали свою общность, слушая пришедшего к ним проповедника. Эта
общность, в свою очередь, усиливала эмоциональное воздействие устного слова.
Такое воздействие вряд ли могло оказать уединенное чтение записей о жизни
Иисуса или библейских пророчеств.
У первых христиан не было потребности в записях своего учения еще и потому,
что обещания спасения, установления тысячелетнего царства божия на земле были
обращены именно к ним, к "этому" поколению. Главный в общинах первых
христиан было учить и проповедовать, а не писать. Еще во II в. сохранились
разные бродячие проповедники, которых ярко описал противник христианства Цельс:
"Многие безвестные личности в храмах и вне храмов, некоторые даже
нищенствующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда представляется
случай, начинают держать себя, как прорицатели. Каждому удобно и привычно
заявлять: "Я — бог, или дух божий, или сын божий. Я явился. Мир погибает и
вы, люди, гибнете за грехи. Я хочу вас спасти. И вы скоро увидите меня
возвращающимся с силой небесной. Блажен, кто теперь меня почтит; на всех же
прочих, на их города и земли я пошлю вечный огонь... А кто послушался меня, тем
я дарую вечное спасение". К этим угрозам они вслед за тем прибавляют
непонятные, полусумасшедшие, совершенно невнятные речи, смысла которых ни один
здравомыслящий человек не откроет; они сбивчивы и пусты, но дураку или шарлатану
они дают повод использовать сказанное, в каком направлении ему будет
угодно".
Хотя Цельс и не называет здесь прямо христиан, но излагаемое им содержание
проповеди указывает на ее христианское происхождение.
Многие современные ученые полагают, что в период устного распространения
христианства сложились отдельные "блоки" традиции: речения, притчи,
сказания о чудесах, эпизоды, иллюстрирующие библейские пророчества. Разные
проповедники применительно к своему пониманию нового учения по-разному соединяли
эти "блоки", кое-что выбрасывая, кое-что добавляя.
В условиях, когда пророчества играли для верующих столь большую роль,
естественно появление в качестве одного из первых жанров христианской
литературы так называемых откровений (апокалипсисов) — рассказов о видениях,
якобы предвещавших конец света. Под влиянием ветхозаветных пророческих книг и
экзальтированных устных проповедей появилось Откровение Иоанна, или
Апокалипсис, включенное позже в новозаветный канон. Это — описание видений
Страшного суда, адресованное семи христианским общинам в малоазийских городах.
Оно начинается как наставление, в котором порицаются одни христиане, одобряются
другие, но затем от этих наставлений автор переходит к рассказу о видениях,
переполненному символами, аллегориями, устрашающими образами того, "чему
надлежит быть". Откровение Иоанна было создано в конце 60-х годов
I в.; в нем сохранились живые воспоминания о страшном пожаре, опустошившем
Рим в 64 г.; ясны связи этого произведения с ветхозаветными пророчествами;
в нем нет развитого учения о Христе. Ф. Энгельс датирует Апокалипсис
68—69 гг. Возможно, он был отредактирован переписчиками в 90-х годах,
т. е. уже после падения Иерусалима (70 г.) и поражения
I иудейского восстания против римлян (73 г.). Именно к этому времени
относит создание Откровения Иоанна церковная традиция.
В Откровении Иоанна упоминаются последователи таких спорящих друг с другом
проповедников внутри христианских общин: николаиты, сторонники Валаама,
сторонники пророчицы Иезавели. Все эти группы осуждаются автором Апокалипсиса.
И, напротив, он с похвалой отзывается об эфесских христианах за то, что они не
послушались "тех, которые называют себя апостолами, а на самом деле не
таковы". Христиане Смирны, пребывающие "в нищете и скорби", еще
и "терпят злословие" от тех, которые "говорят о себе, что они
иудеи, а на самом деле не таковы".
Такое же разнообразие проповедей и проповедников отражено и в посланиях
Павла: в Первом послании к коринфянам автор его пишет, что коринфских христиан
раздирают споры: "... у вас говорят: "я Павлов", "я
Аполлосов", "я Кифин", "а я Христов" (1:12). Призывая
к единомыслию, автор посланий в свою очередь спорил с "иным
благовестием", со "старшими", или высшими, апостолами; обвинял
Петра в лицемерии (Гал.2:11-13). Те же христиане, которые сохраняли иудейскую
обрядность, главным апостолом почитали Петра, а Павла называли лжеапостолом,
как об этом пишет Ириней.
Мы не всегда можем точно определить, в чем именно заключались расхождения
между отдельными проповедниками, но само существование расхождений не вызывает
сомнений. Да иначе и быть не могло. Проповедуя в разной этнической среде людям
с разными религиозными традициями, бродячие пророки и фразеологически, и по
существу передавали легенды, притчи, поучения, связанные с именем галилейского
проповедника Иисуса, применительно к особенностям восприятия своих слушателей.
Для христиан из иудеев главную роль играли библейские пророчества,
перефразированные установления и поучения иудейской секты ессеев, жившей в
районе Мертвого моря, с которой были связаны первые палестинские христиане. Но
проповедовать римским беднякам только словами иудейских "священных"
книг было невозможно. И вот очередной проповедник, собравший горстку слушателей
в душных подземельях Рима, начинал рассказ о. бедствиях Иисуса знакомыми им
словами: "Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а сын человеческий
не имеет, где приклонить голову..." (Мф.8:20). Похожие слова когда-то
звучали в речах защитника римских крестьян Тиберия Гракха; во всяком случае,
эти слова вложил в его уста писатель Плутарх, живший на рубеже
I и II вв.: "И дикие звери в Италии имеют логова и норы,
куда они могут прятаться, а люди, которые сражаются и умирают за Италию, не
владеют в ней ничем, кроме воздуха и света..." (Плутарх. Тиберий
Гракх, 9). И галилейский пророк становился ближе и понятнее потомкам тех
римских крестьян, которые когда-то выступали за Гракха...
Различия в отдельных догматах, обрядах, этических нормах у разных групп
христиан были еще более существенными, чем различия в образном строе проповедей
или отдельных словоупотреблениях. Мы рассмотрим эти различия в последующих
главах, когда будем рассказывать о конкретном содержании апокрифических
писаний.
Поддержать сознание правоты у малочисленных последователей христианства,
изолировавших себя от окружающего греко-римского общества, его мировоззрения и
этики, противопоставлявших себя стихии языческого мира, могла только слепая
вера. Но такую веру могли внушить и внушали лишь проповедники-фанатики, которые
каждое слово свое считали истинным, а все иные слова — ложными. Такова была
парадоксальность развития первоначального христианства. Каждый проповедник
стремился объединить, сплотить христиан, и в этой борьбе за сплочение каждый
называл другого, хоть в чем-то расходящегося с ним проповедника лжепророком. И
все эти пророки в борьбе за распространение "единственно правильной"
веры вели между собой беспощадную борьбу.
Наиболее деятельные проповедники стремились насадить свое понимание
христианства как можно шире в разных христианских общинах. Таким проповедникам
приходилось не только произносить устные речи, но и писать послания, напоминая,
переубеждая, хваля или, наоборот, угрожая карой, в те города, куда они не могли
прийти сами и куда посылали с письмами своих сторонников. Письма эти были
предназначены для чтения вслух перед собравшимися верующими. К такого рода
письмам относится и большинство посланий Павла[4], который, согласно христианской легенде, был сначала
ревностным гонителем христианства, а потом стал еще более ревностным его
приверженцем. Поскольку эти письма — не богословские трактаты, не обобщение
всего вероучения, а защита определенных взглядов на христианство перед
конкретными (уже принявшими христианство) группами людей, то ни жизнеописания
Иисуса, ни системы его учения в посланиях Павла нет.
С течением времени расхождения между различными вариантами устной традиции
становились все значительнее. Шли споры относительно необходимости соблюдения
обрядов и норм иудейской религии. Менялись представления о путях спасения.
"Страшный суд" отодвигался в неопределенное будущее. Как мы увидим
дальше, проблема царства божия (его сущность, "местонахождение",
возможность его достижения) станет одной из важнейших теологических проблем,
которую будут обсуждать христиане во II в. Непрерывные споры христиан
между собой были заметны и их противникам. Так, философ II в. Цельс писал
о них: "Вначале их было немного и у них было единомыслие, а размножившись,
они распадаются тотчас же и раскалываются: каждый хочет иметь свою собственную
фракцию..."
ОТБОР "СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ"
Шли годы, и проповедникам все труднее становилось подтверждать свою правоту
ссылками на то, что они сами слышали очевидцев деятельности Иисуса или их
ближайших учеников, а ссылки на авторитеты были им необходимы. В таких условиях
в христианских общинах начинают производиться записи того, что члены этих общин
знали об Иисусе, фиксируются наиболее важные догматические положения и
этические нормы.
Ряд современных ученых полагают, что первые записи были анонимны. Прежде
всего, вероятно, были записаны "речения Иисуса" — отдельные
высказывания, авторство которых приписывалось основателю учения и которые были
известны по устным проповедям. Затем из разных "блоков" устной
традиции складываются уже более развернутые повествования. В основе их лежало
ядро христианского вероучения — учение об искупительной смерти и воскресении
Иисуса. Вокруг этого ядра группировались "доказательства" его
мессианизма, почерпнутые из библейских пророчеств, рассказы о чудесах,
включались отдельные речения — иногда сами по себе, иногда в связи с эпизодами
его биографии, соответствующими характеру речения. В записях появлялись также
истории, которые должны были оправдать определенные правила поведения,
сложившиеся, в христианских общинах. Многие записи делались примерно в одно
время в разных местах. Затем более ранние использовались в более поздних —
иногда просто путем прямого заимствования, иногда с достаточно значительной
переработкой. Если раньше несовпадения отмечались между различными вариантами
устной традиции, то в начале II в. расхождения существовали уже между
устной традицией и книгами, а также между книгами и книгами. Первые записи,
видимо, были сделаны скорее для запоминания, чем для "освящения"
традиции, но затем для придания авторитета каждому писанию возникла потребность
возводить его к ученикам Иисуса или хотя бы к соратникам его учеников. Каждая
община верила, что именно в ее записях сохранились слова, некогда сказанные
этими учениками.
Появление собственно христианских "священных" книг в еще большей
степени обнажило расхождения в вероучении. Некоторые книги почитались небольшим
количеством общин, другие распространялись среди христиан довольно широко. Из
евангелий, входящих в Новый завет, на рубеже I и II вв. наиболее
признанными были, по-видимому, евангелия от Матфея и от Марка, имевшие хождение
в нескольких вариантах; святость Евангелия от Луки признавалась не всеми
группами христиан. Четвертое евангелие, как и остальные писания, связанные с
именем Иоанна, вызывало возражения во многих христианских общинах.
Замена устной традиции фиксированными записями поучений и преданий шла
параллельно с формированием христианской церковной организации. Во II в.
наряду с бродячими проповедниками и пророками, переходившими с места на место,
а потом и вместо них главенствующее положение в христианских общинах заняли
постоянные их старосты — пресвитеры. Несколько общин объединялись под
руководством епископов ("надзирателей").
Руководители христианских общин были и духовными "пастырями"
верующих: им приходилось высказываться по вопросам вероучения, выбирать для
чтения в собраниях христиан отрывки из тех или иных "священных" книг.
А во II в. этих книг становилось все больше, причем многие из них уже были
наполнены сознательной полемикой по отношению к другим таким же книгам.
Христианским общинам и их руководителям необходимо было произвести отбор тех
сочинений, которые представлялись им правильными, только на эти сочинения
ссылаться, только их почитать священными. Без такого отбора никакого, даже внешнего,
единства не осталось бы между отдельными христианскими общинами. Чем бы они
тогда отличались от многочисленных разрозненных союзов почитателей различных
средиземноморских божеств?
Отбор писаний был процессом длительным и сложным. Христианские богословы,
епископы разных областей высказывали свое мнение в защиту тех или иных книг.
Уже упомянутый выше Ириней в книге "Против ересей" защищал четыре
новозаветных евангелия и осуждал все остальные.
Но отбор не был только делом рук нарождающегося церковного аппарата. Большую
роль играла традиция почитания отдельных сочинений, а эта традиция в разных
областях была различной.
Некоторые деятели христианства стремились вообще избавиться от
множественности "священных" книг и ввести одно евангелие —
единственный источник сведений о Христе и его учении. Так, христианский
писатель II в. Татиан создал евангелие "Диатессарон" ("По
четырем"), где он свел основное содержание четырех затем вошедших в канон
евангелий, устранив противоречия, добавив к ним кое-какой материал из одного из
самых древних неканонических евангелий — Евангелия евреев. В конце 30—40-х
годов II в. среди римских христиан выдвигается некто Маркион, приехавший в
Рим из Малой Азии. Страстный противник иудаизма, выступавший за полный разрыв
христианства с иудейской религией, Маркион предлагал почитать священными только
десять посланий Павла и сокращенный (по сравнению с новозаветным) вариант
Евангелия от Луки (в этом варианте отсутствовали сказания о рождении Иоанна
Крестителя и Иисуса).
Но попытки ограничить "священные" книги одним евангелием не
получили поддержки широких слоев христиан (за исключением группы сирийских
христиан, которая приняла "Диатессарон"): трудно было отказаться от
книг, которым привыкли верить.
Списки наиболее почитаемых произведений составлялись в разных областях: в
Риме и в городах Малой Азии, в Карфагене, в Александрии, в Сирии.
Список христианских писаний, составленный в Риме, относится к концу
II в. Он обнаружен в 1740 г. итальянским исследователем Муратори и
называется обычно "Каноном Муратори". В нем нет начала, но можно
понять, что в него включены новозаветные евангелия: автор списка специально
оговаривает, что четыре евангелия согласны друг с другом. В списке упомянуты
деяния всех апостолов в одной книге (автор тем самым отвергает деяния отдельных
апостолов, имевшие хождение во II в.). В нем приведены также апостольские
послания, среди которых нет послания к евреям, второго послания Петра, послания
Иакова и трех посланий Иоанна. По поводу апокалиптических сочинений автор списка
замечает: "Из откровений мы признаем только Иоанна и Петра, которое
некоторые из наших не хотят читать в церкви. Но Герма написал
"Пастыря" уже в наши дни в Риме, когда епископом был его брат Пий.
Поэтому его нужно читать, но не публично в церкви — ни среди (произведений)
апостолов, ни среди пророков".
Последнее высказывание приоткрывает нам некоторые критерии подхода
христианской церкви конца II в. к своим "священным" книгам и
назначение этих книг. Важно было не только содержание, но и давность,
"авторитетность" сочинения, которое читалось вслух в собрании
верующих. Здесь действовал уже не смысл читаемого, а образ слова, некогда
произнесенного и записанного самими учениками Иисуса, который к этому времени
уже признавался сыном божиим большинством христиан. Слово приобретало
магическое воздействие: вдумываться в смысл не нужно; от произносимого в церкви
как бы исходила святость, распространявшаяся и на говоривших и на слушавших.
Что же касается "Пастыря", написанного Гермой, то это сочинение не
было внесено в список не потому, что содержание его не устраивало составителя
списка, а потому, что оно было создано на его памяти конкретным человеком,
таким же, как он. Сочинение Гермы можно было читать дома, обдумывать его, может
быть, даже не соглашаться. Здесь мы видим ту особую роль традиции, которая
свойственна древним обществам. Еще со времени первобытности, когда отношения
внутри родовых коллективов регулировались обычаем, передаваемым от одного
поколения к другому, древность традиции воспринималась как ее святость. В
соблюдении традиции — религиозной, моральной — проявлялось единство данного
коллектива. Это не значит, конечно, что обычаи оставались неизменными на
протяжении сотен лет; они, как и древние мифы, видоизменялись, переосмыслялись,
но редко исчезали совсем. Христиане поставили себя вне системы современных им
общественных связей, отказавшись (на первых порах) от древних мифов, обычаев,
эстетических норм, но в процессе мифотворчества они неизбежно создавали свои
традиции, поддерживавшие сознание общности по вере. И чем древнее была эта
традиция, тем меньше подвергалась она рациональному анализу.
Однако древность не могла быть единственным критерием (или даже основным)
при отборе "священных" книг, который начался во II веке. Слишком
значительны были расхождения по существу даже между самыми ранними записями.
Христианское учение еще только складывалось; сама традиция не была достаточно
устойчивой. Поэтому критерий содержания был одним из основных. Но, отвергая
содержание того или иного писания, идеологи христианства подвергали сомнению и
подлинность авторства, так как выступать против апостольских слов было к концу
II в. уже невозможно. Если эти слова нельзя было истолковать в
соответствии с учением данной христианской группы, то их следовало объявить подложными,
выдуманными или по крайней мере сомнительными, спорными.
Уже со времени "Канона Муратори" среди христианских писаний
выделяются три группы — подлинные, сомнительные (спорные) и тайные (подложные).
Такое деление встречается и у Оригена. Он ссылается на ряд писаний второй
группы, например на Евангелие евреев или Деяния Павла, и замечает, что с этими
произведениями можно считаться, хотя их не следует ставить в один ряд с
четырьмя евангелиями. По словам автора церковной истории Евсевия, Ориген
сомневался в авторстве новозаветного послания к евреям: по мнению Оригена, это
послание пересказывает апостольские поучения, но подлинный автор его
неизвестен. Сам Евсевий считал спорными Послания Иакова, Иуды, Второе послание
Петра, Второе и Третье послания Иоанна. К подложным он относил ряд писаний, в
том числе Апокалипсис Петра, и с оговоркой ("если кто считает
возможным") — Апокалипсис Иоанна и Евангелие евреев. При такой
неопределенности оценок отдельные епископы иногда были вынуждены сами решать,
что можно и что нельзя читать их пастве. Известно, например, что епископ
Серапион (ок. 200 г.) сначала разрешил сирийским христианам
пользоваться распространенным у них Евангелием Петра, а затем, познакомившись
ближе с его содержанием, решил запретить.
В III в. в Риме был составлен список новозаветных писаний, несколько
сокращенный по сравнению с "Каноном Муратори". Другой канон
III в., Александрийский, был значительно шире римского: кроме основных
произведений Нового завета туда были включены Учение двенадцати апостолов (Дидахе),
"Пастырь" Гермы, Апокалипсис Петра, послания, написанные Климентом и
Варнавой (по христианскому преданию — учениками апостолов) . В Антиохии
продолжали чтить "Диатессарон". Свой набор "священных
писаний" был у христиан-гностиков, у иудеохристиан (т. е. христиан,
не порвавших с иудаизмом).
Перелом в составлении канона произошел в IV в. В 313 г. римские
императоры Константин и Лициний издали предписание — так называемый Миланский
эдикт, согласно которому христиане получали разрешение свободно отправлять свой
культ. Христианские общины получили также право владеть землей; отобранное у
них во время гонений имущество возвращалось им. Начался процесс превращения
христианства в государственную религию. Руководители христианской церкви
получили наконец возможность использовать всю мощь государственного аппарата
империи для внедрения одной определенной доктрины и для гонения не только (или
даже не столько) на язычников, но и на те христианские учения, которые они
считали еретическими. Императорам в свою очередь нужна была единая церковь с
единым учением, единым централизованным руководством, которое соответствовало
бы централизованному управлению империей. Чтобы разобраться в междоусобной
борьбе христиан, император Константин (306—337 гг.) потребовал, чтобы
епископы представили ему копии "священных" книг. Начались длительные
совещания, епископы созывали съезды (соборы), обменивались посланиями, чтобы
точно установить канон. Только в 363 г., уже после смерти императора
Константина, на соборе в Лаодикее было принято решение разослать по
христианским общинам письма с перечнем канонических произведений.
В Лаодикейский канон вошли все произведения, которые позднее были включены в
Новый завет, кроме Откровения Иоанна. В 367 г. в письме епископа Афанасия
были названы уже все 27 произведений Нового завета. Спорными остались
Дидахе и "Пастырь" Гермы. Но этот список не был окончательным:
христиане Сирии и в IV в. не признавали Откровения Иоанна; египетские
(коптские) христиане совсем не приняли ортодоксального учения (у них были свои
"священные" книги).
В 419 г. на Карфагенском соборе окончательно был утвержден список книг
Нового завета. К этому времени исчезло и понятие сомнительности, спорности
христианских писаний. Ведь оно создавало возможность для инотолкования
"священного писания". А этого господствующая церковь не могла
допустить. Все книги, которые не вошли в Новый завет, стали называться
апокрифическими, тайными. Но не все их было запрещено читать верующим;
некоторые были допущены для домашнего чтения. К таким относились созданные уже
после основных "священных" книг различные повествования, дополняющие
скудные биографические сведения об Иисусе, Марии, Иосифе и других евангельских
персонажах. Эти писания наполнены рассказами о чудесах, различными сказочными мотивами,
близкими разноплеменному составу христиан, привыкших слышать вокруг себя
пересказы языческих мифов и преданий, сообщения о чудесах, знамениях,
предсказаниях и т. п. Таковы евангелия детства Иисуса, "История
Иакова о рождении Марии", сочинение анонимного автора IV в. "Об
успении Марии", Евангелие Никодима и др. Они не были включены в канон
из-за их позднего происхождения и явной фантастичности. Они не излагали
догматики и поучений и не были связаны с традициями ранней христианской
литературы. Но популярность их в поздней империи и в раннем средневековье,
когда в христианство обращались массы людей, принесших в новую религию свои
древние верования, была достаточно велика. Одно из евангелий детства Иисуса,
так называемое Евангелие Фомы (не следует путать с одноименным произведением из
хенобоскионской библиотеки!), известно, например, в пяти версиях: двух на
греческом, одной на сирийском и двух на латинском языке.
Те же сочинения, чье содержание существенно противоречило победившему
направлению в христианстве, читать строго запрещалось. Эти книги считались не
просто апокрифическими, а запрещенными, "отрешенными". Первый список
"отрешенных" книг был составлен в V в. в Восточной Римской
Империи (Византии). Вошедшие в него книги просто уничтожались. Они
действительно стали тайными, секретными книгами. Поэтому большинство ранних
апокрифов до нас не дошло или дошло только в отрывках и цитатах. Исключение
составляют те, которые археологам удалось обнаружить в песках Египта. Между тем
именно эти ранние, когда-то почитавшиеся не меньше тех, что вошли в Новый
завет, и созданные параллельно с ними писания позволяют глубже и полнее узнать
историю формирования и распространения раннего христианства, определить
направления, по которым шла борьба между христианскими общинами.
РАННИЕ АПОКРИФЫ:
РЕЧЕНИЯ И ЕВАНГЕЛИЯ
НЕКАНОНИЧЕСКИЕ РЕЧЕНИЯ
В ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Время становления христианских организаций было, как мы говорили, и временем
создания первых писаний. Устная традиция к концу I в. уже создала
определенные формы, в которых распространялось новое учение: пророчества,
притчи, речения, отдельные легенды. Авторы первых писаных произведений черпали
свой материал из этих сложившихся форм устной традиции: в посланиях, например,
встречаются ссылки на слова Иисуса и эти ссылки как бы освящают все сказанное
автором. Ко времени создания посланий верующие знали основной набор изустно
передававшихся изречений, которые в тех или иных вариациях использовались
проповедниками. Включение этих изречений в послания и апокалипсисы было часто их
первой записью.
Споры между проповедниками, расхождения в традиции, использование речений в
разных контекстах — все это рано или поздно должно было привести к записи
прежде всего той традиции, которая содержала поучения, вложенные в уста Иисуса.
Ибо только его слова воспринимались как священные и их подлинность не требовала
обоснования. О том, что такой "блок" отдельных речений существовал
уже в начале II в., свидетельствует название не дошедшего до нас сочинения
христианского писателя Папия — "Изъяснение господних изречений".
Многие ученые полагают, что именно запись речений легла в основу других
христианских книг, в частности евангелий, как канонических, так и
апокрифических.
Исследователи первых трех евангелий Нового завета пришли к выводу, что
авторы евангелий от Матфея и от Луки пользовались Евангелием от Марка и еще
каким-то источником, обозначаемым в научной литературе латинской буквой Q, с
которой начинается слово quelle — "источник". К этому источнику
принято относить то общее, что есть у Луки и Матфея, но чего нет у Марка.
Источник Q происходит, вероятнее всего, из общин, надеявшихся на скорое второе
пришествие Сына человеческого; он представлял собой запись речений,
провозглашавших это пришествие. Кроме того, были записи, которыми пользовался
автор Евангелия от Марка. Записи речений легли в основу и евангелий,
впоследствии непризнанных церковью, например Евангелия от Фомы. Когда именно
были произведены эти записи, сказать трудно, во всяком случае до создания
евангелий. Что касается написания новозаветных евангелий, то и для них точных
датировок установить также пока не удалось. Поскольку в этих евангелиях
содержатся пророчества о страшной гибели Иерусалима (Лк.23:28-29; Мф.14:2),
можно с определенностью говорить, что созданы они были после его разрушения,
т. е. после 70 г. Самым ранним из канонических евангелий в науке
единодушно признается Евангелие от Марка, хотя церковная традиция ставит его на
второе место. В нем нет рассказов о рождении Иисуса, оно — самое краткое из
четырех, его широко использовали в качестве источника Матфей и Лука. Согласно
традиции, сохраненной у писателя IV в. Евсевия Кесарийского, Марк записал
то, что запомнил со слов Петра, чьим переводчиком он был. Относительная
хронология евангелий от Матфея и от Луки неясна; можно утверждать только, что
они созданы в разной этнической среде: автор Евангелия от Луки — образованный
грек; Евангелие от Матфея выявляет более тесные связи с иудейскими традициями.
Среди христианских писателей II—IV вв. бытовало мнение, что Матфей написал
свое евангелие по-арамейски. Евсевий писал, что Матфей создал евангелие на
еврейском языке, чтобы, уходя (имеется в виду — из Палестины) проповедовать к
другим, оставить писание палестинским христианам.
Сложен вопрос о датировке Евангелия от Иоанна. Согласно церковной традиции,
оно было создано после написания первых трех евангелий Нового завета. Евсевий
Кесарийский пишет, что Иоанн проповедовал устно и только после появления трех
евангелий решил их дополнить. Климент Александрийский считал, что Иоанн написал
"евангелие духовное". Несомненно одно — автор этого евангелия знал
традицию, лежавшую в основе первых евангелий, но совпадений с ней у него мало.
В четвертом евангелии нет описания рождения, крещения, искушения Иисуса, нет
его сомнений перед арестом. Иисус Евангелия от Иоанна произносит вероучительные
речи, большая часть которых в других евангелиях отсутствует[5]. Некоторый ориентир для датировки этого евангелия дают
находки в Египте. Так, там был найден фрагмент четвертого евангелия, который
папирологи датируют 125—130 гг. К этому же времени относится и один из
фрагментов неизвестного евангелия, о котором упоминалось выше; в нем
использована традиция всех четырех новозаветных евангелий, а также какие-то
иные источники. Следовательно, Евангелие от Иоанна было написано ранее этого
времени. Таким образом, в первой четверти II в. существовали тексты
различных евангелий, которые переписывались в Египте, куда христианство
проникло позже, чем в Малую Азию и Грецию. Принято считать, что евангельское
творчество относится к концу I в.
Существует также мнение, что евангелия формировались из разных частей устной
традиции, которые составители евангелий компоновали по-разному, и что
зависимость одних евангелий от других не всегда была прямой. В любом случае в
процессе создания первых христианских писаний фиксация тех речений, которые
верующие (или, точнее, каждая определенная группа верующих) считали подлинными,
была необходима.
Один из вопросов, который встает перед исследователями: на каком языке
делались эти первые записи? Основное население Палестины говорило на арамейском
языке — одном из семитских языков, который в первые века до нашей эры стал
разговорным языком для многих народностей, живших в Передней Азии. Наряду с
арамейским со времени завоеваний Александра Македонского в IV в. до
н. э. получил распространение греческий язык; на Балканском полуострове и
в Малой Азии этот язык господствовал. Дошедшие до нас тексты новозаветных
сочинений и ряда апокрифов написаны по-гречески. Но не лежали ли в основе этих
сочинений более древние арамейские? В греческом тексте евангелий встречаются
так называемые арамеизмы — слова и обороты, восходящие к арамейскому языку.
Были даже предприняты попытки обратного перевода евангелий с греческого на
арамейский; при этом ученым удалось обнаружить (в частности, в новозаветном
Евангелии от Иоанна) в отдельных речениях такую игру слов, которая пропадала
совсем в греческом тексте и которая придавала более поэтичное и в то же время
более таинственное звучание этим речениям. Однако тщательный стилистический и
лингвистический анализ канонических евангелий привел большинство современных
исследователей к выводу, что в целом евангелия не представляют собой перевода с
арамейского, что они изначально написаны на греческом языке. В то же время
нельзя отбрасывать сведения, содержащиеся в источниках, о существовании
арамейских сочинений (в частности, арамейской версии Евангелия от Матфея,
которую Папий считал первоначальной). Если отказаться от теории, высказанной
протестантскими богословами, что новозаветные евангелия, при всей их
противоречивости (во всяком случае, первые три, наиболее схожие между собой)[6], восходят к единому арамейскому
первоисточнику или, может быть, к двум, то наиболее вероятным представляется
предположение о параллельной записи устной традиции на арамейском и на
греческом языках — в зависимости от языка верующих — и о том, что отдельные
арамейские тексты могли быть использованы грекоязычными авторами новозаветных
книг, так же как и непосредственно арамейская устная традиция. Это
предположение позволяет объяснить наличие разных версий евангелий,
приписываемых одному и тому же автору, в то же время соответствует общей
картине разнородности первых христианских произведений, возникавших и
использовавшихся одновременно разными группами христиан.
Мы уже приводили примеры того, что среди речений Иисуса в посланиях и
Деяниях апостолов встречаются такие, которых нет в канонических евангелиях. В
начале создания христианской литературы, когда не сложилось еще деление на
канон и апокрифы, в записи речений могли включаться такие, которые
использовались всеми или большинством христиан, такие, которые принимались
одними и отвергались другими, и такие, которые использовались разными группами
в разных вариантах. Наряду с записями, первоначально сделанными, вероятно, не
для распространения нового учения, а для памяти (или, может быть, для выявления
"ложных пророков"), продолжали звучать устные проповеди, которые
затем записывались.
Выделение речений, не вошедших в канонические евангелия, позволяет
представить все те направления в христианстве, которые существовали уже на
самом раннем этапе его формирования. С этой точки зрения представляет интерес
отрывок из книги Папия, писателя, жившего в первой половине II в. в Малой
Азии. Папий, по его собственным словам, собирал древнюю устную традицию. Он
приводит беседу Иисуса с его учениками, Иисус говорит о царстве божием на
земле, которое будет установлено после второго пришествия. В отличие от других
христианских произведений, у Папия это царство рисуется прежде всего как царство
полного материального благополучия: будет изобилие пшеницы и будут расти
виноградные деревья по десять тысяч лоз каждое, а все животные будут послушны
людям. "Когда же Иуда-предатель не поверил сему, — пишет Папий, — и
спросил, каким образом сотворится господом такое изобилие произрастаний, то
господь сказал: это увидят те, которые достигнут тех времен"[7].
Рассказ Папия и приведенные им речения касались одного из важнейших вопросов
вероучения первых христиан — веры во второе пришествие и установление царства
божия на земле. Эти эсхатологические ожидания (т. е. ожидания конца света)
распространились, вероятно, накануне и во время первого иудейского восстания
против римлян. Разгром восстания, разрушение римлянами Иерусалима могло
восприниматься как бедствие, предшествующее концу света. Учение о конце света
было уже у кумранитов; христианская идея страшного суда была дальнейшим его
развитием.
Надежды на скорое второе пришествие отражены и в наиболее раннем каноническом
Евангелии от Марка: "... нет никого, кто оставил бы дом, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и
евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений во сто крат более
домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке
грядущем жизни вечной" (10:29-30).
Каким же мыслилось царство божие, которое надеялись увидеть христиане,
жившие в конце I в.? Члены кумранской общины верили, что война "сынов
света с сынами тьмы" дарует победу беднякам. В приведенном отрывке из
Евангелия от Марка как будто тоже содержится намек на материальное
вознаграждение приверженцев Иисуса, но в то же время это обещание можно было
толковать аллегорически, поскольку там говорится о том, что они получат также
во сто крат больше отцов и матерей, т. е. что все будут между собой
родными, и никто не будет ни в чем нуждаться.
Рассказ Папия показывает, как некоторые группы христиан представляли себе
царство божие. В этом рассказе отразилась давняя мечта трудящихся об избавлении
от изнурительного труда и недоедания и в то же время сказалась их
беспомощность, неспособность даже в воображении сконструировать сколько-нибудь
реальную ситуацию материального благополучия. В основе представлений о вине,
которое будет рекой литься из виноградников, и обилии пшеницы лежат древние
фольклорные мотивы о существовании сказочной страны, где все продукты имеются в
изобилии. Еще в древнеегипетской сказке "О потерпевшем
кораблекрушение" сообщалось о том, как спасшийся после кораблекрушения
моряк попал на остров, на котором он нашел и фиги, и виноград, и всякие
прекрасные овощи, "и нет такого яства, которого бы там не было".
Изобилие, о котором говорилось во всех подобных сказках, как и в отрывке Папия,
— это изобилие сверхъестественное, не созданное руками человека, а дающееся как
бы само собой.
Беднейшие члены христианских общин восточных провинций, с детства слышавшие
похожие сказания, привнесли их в христианское учение о царстве божием на земле.
Но широкого распространения среди большинства христиан эти верования все-таки
получить не могли: слишком уж ясна была их сказочность. То, во что могли серить
древние египетские земледельцы и ремесленники во втором тысячелетии до нашей
эры, знавшие только узкую полоску Нильской долины и потому безоговорочно
принимавшие на веру рассказы моряков и купцов об иных, непохожих на Египет
землях, уже не воспринималось как истина жителями огромной державы в начале
нашей эры, ибо не подтверждалось их производственным и социальным опытом.
По-видимому, проповедники, вложившие в уста Иисуса столь сказочное описание,
уже чувствовали недоверие со стороны своих слушателей. В рассказе это недоверие
выражает самый отрицательный персонаж новозаветных преданий — Иуда; Иисус же
специально подчеркивает, что рассказ его достоин веры и что те, кто доживет до
тех счастливых дней (здесь явно имеются в виду слушатели), все это увидят.
Вера в скорое второе пришествие отразилась и в варианте фразы известной
христианской молитвы "Отче наш". Один из христианских писателей приводит
этот вариант: "Хлеб наш будущий дай нам сегодня"[8]. Речения о царстве божием на земле раскрывают те же
настроения христианских групп, которые отражены в Апокалипсисе Иоанна. Но
постепенно это напряженное, фанатичное ожидание страшного суда затухало;
наступление тысячелетнего царства добра и справедливости на земле отодвигалось
в неопределенное будущее. В речении о приходе царства божия, содержащемся в
Евангелии от Матфея (оно в целом соответствует речению из Евангелия от Марка),
слова "ныне, во время сие, среди гонений" опущены. Отсутствует там и
материальный аспект вознаграждения. Вместо перечисления "домов, братьев,
сестер... земель" у Матфея просто сказано: "Получит во сто крат и
наследует жизнь вечную" (19:29). Речение из Евангелия от Матфея
кажется сокращенным вариантом аналогичного места у Марка или сокращением
соответствующего речения, которое имело хождение в устной традиции.
Вопросы о сроках наступления страшного суда, о формах вознаграждения
верующих, о моральных требованиях к ним, пожалуй, больше всего волновали
христиан на рубеже I и II вв. Все христианские группы отрицали
существующую систему ценностей: стремление к почетным должностям, к богатству,
к наградам, которые раздавались императорами или городом, но позитивная шкала
ценностей вырабатывалась у христиан постепенно и по-разному. Мы уже упоминали в
предыдущей главе о разном отношении к богатству, отразившемся в новозаветных
текстах. Были христиане из низов общества, которые считали, что бедность и
слабость — основное условие достижения царства божия. Это отразилось в
отдельных речениях, не вошедших в новозаветные сочинения. Так, Ориген приводит
слова, приписываемые Иисусу: "Из-за слабых я был слаб, из-за голодающих
голодал и из-за жаждущих испытывал жажду". Другое неканоническое речение
подчеркивало: "Слабость спасется через силу".
Изречение, приведенное у Оригена, по смыслу может быть связано с тем местом
из послания к филиппийцам, где сказано, что Иисус принял образ раба и уничижил
сам себя. Смысловая связь указывает на древность традиции, лежащей в основе
этих представлений (унижение, голод, рабство ради спасения именно униженных и
голодных). Своеобразно эта традиция проявилась и в Учении двенадцати апостолов
(Дидахе), где Иисус назван не сыном божиим, а рабом господним (в греческом тексте
здесь употреблено слово "пайс", которое обозначает и
"дитя", и "раб", т. е. человек, подчиненный кому-то).
В данном случае на социальное представление о рабе наложилось религиозное:
Иисус — раб, но раб божий, и в то же время дитя божие. Для религиозной литературы
вообще характерно употребление многозначных терминов.
Не имея возможности реально изменить ни совокупность общественных отношений,
ни — в подавляющем большинстве случаев — свое личное положение, христиане
хотели верить, что именно беды и несчастья составляют их преимущество перед
сильными мира сего и послужат им во спасение. Это представление — одна из основ
христианского мировоззрения. В дальнейшем оно выражалось по-разному: с одной
стороны, в выступлениях приверженцев различных ересей против богатства, с
другой — в проповеди господствующей церкви о необходимости смирения для
бедняков и страждущих.
К кругу вопросов, связанных с достижением царства божия, относится еще одно
неканоническое речение, приведенное у Тертуллиана: "Никто не достигнет
царствия небесного, кто не прошел через искушение (кто не преодолел искушения.
— И. С.)". Это изречение отражает один из моментов становления
христианской морали. В царство божие попадут не просто добродетельные люди, а
те, которые прошли через испытания, искушения. Преодоление соблазнов становится
как бы обязательным условием спасения.
В какой-то степени за этим стояла психология "раскаявшегося
разбойника", отказавшейся от богатства блудницы — всех тех изгоев, которые
обретали в христианстве самоуважение. Но в то же время приведенное речение как
бы говорило, что не все верующие войдут в царство небесное: чтобы попасть туда,
требуется особая стойкость, обязательное преодоление соблазнов. Подобные
представления, возникшие в среде преследуемых во времена гонений, впоследствии
приводили к разным формам фанатизма, аскетизма, искусственным испытаниям,
которым подвергали себя верующие.
К раннему периоду развития христианства относится и сравнительно часто
встречающееся у христианских писателей речение: "Будьте опытными менялами".
В нем содержится образное предостережение против обманщиков — ложных пророков,
которых нужно уметь распознавать, — мотив, часто встречающийся в
раннехристианской литературе. Характерен и образ, использованный здесь, —
меняла, умело определяющий фальшивые монеты, — взятый из жизни, но, как всегда
в христианских текстах, с перевернутым значением: нужно умело распознавать не
материальные, а духовные ценности.
ЛОГИИ ИЗ ОКСИРИНХА
Христианские писатели II—III вв. взяли рассмотренные изречения частично
из не дошедших до нас евангелий, частично, вероятно, из сборников речений,
которыми могли пользоваться и составители евангелий. Такие изречения были
записаны и на оксиринхских папирусах, о которых уже упоминалось. Эти записи
относятся к концу II — началу III в., но сам текст изречений более
древний. Некоторые из изречений (логиев, как они назывались по-гречески) в той
или иной степени совпадают с речениями новозаветных евангелий, некоторые — с
речениями Евангелия Фомы, найденного в Хенобоскионе; есть речение, которое,
согласно свидетельству Климента Александрийского, входило в Евангелие евреев.
Речения начинаются словами: "Говорит Иисус", что свидетельствует о
стремлении записчиков придать сборникам логиев определенное стилистическое
единство. Все это позволяет думать, что логии из Оксиринха — самостоятельное и
независимое от канонических евангелий собрание речений, которые долгое время
были в ходу у разных христианских групп. Из подобных собраний, в основе которых
лежала устная традиция, могли брать многие поучения создатели евангелий всех
направлений.
Рассмотрим сначала логии, не имеющие аналогии в каноне. С условиями
достижения царства божия связано речение: "Говорит Иисус. Если вы не
отречетесь от мира, не обретете царства божия; если вы не будете соблюдать
субботу, не увидите Отца". Изречение возникло, скорее всего, в тот период,
когда большинство христиан составляли люди иудейского происхождения и когда
начал дискутироваться вопрос о необходимости для христиан соблюдения иудейских
обрядов. Поэтому в речении как непременное условие достижения царства божия
выдвигается требование соблюдения священного для иудеев субботнего дня. Это
требование было чуждо христианам из язычников, да и строгое выполнение его было
в условиях римской провинциальной жизни затруднено для трудящихся-бедняков, не
говоря уже о рабах. В посланиях Павла встречаются резкие выпады против
обязательного соблюдения "закона", т. е. иудейских религиозных
правил. В Послании к галатам, в частности, утверждается, что пришествие Христа
отменило закон, что исполнение всех обрядов есть "иго рабства", от
которого освобождает учение Христа, одинаково доступное и иудеям и язычникам.
Требование подчинения "закону" ограничивало приток в христианские
общины неиудеев и суживало смысл одного, из важнейших положений христианства —
о спасении Иисусом всего человечества, которое соответствовало мироощущению
жителей пестрой по своему этническому составу Римской империи.
В Новом завете отношение к соблюдению иудейской обрядности сложное. В
Евангелии от Матфея Иисус утверждает, что он "послан только к погибшим
овцам дома Израилева" (15:24). Однако он стремился освободить своих
единоверцев из "дома Израилева" от буквального соблюдения ритуальных
правил. В Евангелии от Луки Иисус, оправдывая своих спутников, срывавших в
субботу колосья (чего нельзя было делать, по мнению строгих последователей
иудаизма), сказал: "Сын человеческий есть господин и
субботы" (6:5). Существует список Евангелия от Луки, где приводится
иная, не вошедшая в канонический текст версия о возможности работы в субботу.
Когда Иисус увидел человека, работающего в субботу, он сказал ему:
"Человек, если ты знаешь, что делаешь, будь благословен, но если ты не
знаешь, ты проклят, как преступающий закон". Эта версия ближе к требованию
апокрифического логия соблюдать субботу; вероятно, она и более древняя. Смысл
ее следующий: только тот, кто сознательно идет на нарушение субботних запретов
во имя благих целей, имеет на это право; все же остальные, бездумно нарушающие
"закон", будут прокляты. Такая формулировка ставила духовные
устремления человека выше формальной обрядности, но в то же время призывала к
соблюдению обрядов в обычной ситуации.
Это создавало возможность некоторого компромисса между сторонниками и
противниками иудейской обрядности. Но в окончательный, принятый церковью текст
евангелия эта версия не вошла: слишком силен был в ней акцент на проклятии за
несоблюдение субботы.
В оксиринхском логии интересен также характерный для христиан призыв
отречься от мира. В этот призыв разные группы вкладывали разное содержание: и
отказ от материальных благ, и мистическое самоуглубление, означавшее отказ от
всех контактов с земным миром. В рассматриваемом логии отречение от мира —
основное условие достижения царства божия. Под царством божиим первые христиане
понимали тысячелетнее царство добра и справедливости, которое должно
установиться на земле после второго пришествия Христа. Словосочетание
"царство божие" употребляется и в Евангелии от Марка. Но в Евангелии
от Матфея более частым становится выражение "царство небесное"[9]. Появление этого выражения связано с
общим спадом напряженного ожидания конца света и распространением веры в
потустороннее воздаяние, спасение на небесах.
Приведенный неканонический логии представляется одним из весьма древних,
восходящим к первым христианским группам из иудеев. Но в канонические евангелия
это речение включено не было, так как оно не соответствовало настроениям тех
христиан, которые стремились приспособиться к окружающему их миру, и не могло
быть принято новообращенными язычниками. Формирующаяся церковь, естественно, не
признала священности этого речения Иисуса.
Среди оксиринхских логиев есть речение, которое не имеет аналогий в Новом
завете, но оно включено в Евангелие Фомы: "Говорит Иисус. Где будут двое,
там они не будут без бога, и где будет один одинок, там я с ним. Подними
камень, и там найдешь меня, рассеки дерево — и там". Как и многие речения,
этот логий многозначен. Его могли воспринимать как слова о повсеместном
присутствии божества, как разлитость его в природе. Вероятно, именно так он
воспринимался читателями и слушателями Евангелия Фомы. Египетским христианам
было близко представление о присутствии божества в природе; в Египте издревле
были распространены культы животных, гор, реки Нила. Могло быть и другое, более
простое восприятие этого речения: реальное присутствие Иисуса рядом с
верующими, его помощь в их работе. На древность этого речения указывают
семитизмы[10] в греческом тексте.
Некоторые современные комментаторы оксиринхских логиев предполагают здесь
скрытую полемику с текстом из ветхозаветной книги "Екклесиаст":
"Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот
может подвергнуться опасности от них" (10:9). В противоположность
"Екклесиасту", логий как бы освящает тяжелый человеческий труд. Но
для составителей новозаветных евангелий и для тех деятелей церкви, которые
отбирали "священные" книги, этот логий был неприемлем именно в силу
своей чрезмерной многозначности, некоторого языческого привкуса. Они стремились
создать учение по возможности стройное и устранить противоречивые толкования
его.
Здесь представляется уместным затронуть вопрос о том, почему вообще древние
христианские речения многозначны. Какую роль играли в речениях (как и в
притчах, о которых мы будем говорить в связи с апокрифическими евангелиями) все
эти метафоры, усложненные образы, аллегории? При ответе на этот вопрос нужно
иметь в виду, что религиозные проповедники обращались прежде всего к чувству
верующих, убеждали их не логикой, а вдохновением. Многозначная образность заставляла
слушателей не понимать смысл, а догадываться о нем, и эти догадки
воспринимались как озарение свыше. Для первых христиан проникновение в
аллегории речений было как бы проникновением в тайны, которое связывало
верующих между собой и отделяло их от мира язычников, непосвященных в эти
тайны. Однако естественным следствием многозначности этих образов было
существование множества их толкований, которые часто противоречили друг другу.
Христианство не только по существу, но и по способам выражения не могло быть
единым учением, если только не запретить, как это и сделала в свое время
ортодоксальная церковь, сами толкования.
Как уже говорилось, некоторые оксиринхские логии частично совпадают с
каноническими текстами. Например: "Говорит Иисус. Город, построенный на
вершине горы и укрепленный, не может ни упасть, ни быть сокрытым". В этом
логий речь идет о христианском учении, которое должно быть увидено всеми и
которое нельзя уничтожить. В Евангелии от Матфея это речение дано в сокращенном
виде: "Не может укрыться город, стоящий на верху горы" (5:14).
Такое сокращение можно объяснить образным строем логия. Вероятно, он получил
распространение до первого иудейского восстания, во всяком случае до взятия
Иерусалима римлянами. После разгрома последнего образ укрепленного города,
который не может быть разрушен, должен был вызывать негативные ассоциации с
недавними событиями и не оказывал уже желаемого воздействия. У создателей
евангелий, включенных в Новый завет, для сокращения этого речения могли быть и
соображения социального порядка. По Матфею, Иисус сравнивает с городом, стоящим
на верху горы, своих учеников. Сравнение же с городом укрепленным звучало,
возможно, слишком воинственно, оно больше соответствовало духу Апокалипсиса
Иоанна, чем духу новозаветных евангелий.
Споры о царстве божием на земле, о сущности страшного суда, которые шли
между христианами на протяжении I—II вв., нашли свое отражение в логий о
воскрешении мертвых, который также представлен в Новом завете в более кратком
варианте: "... все, что не находится перед взором твоим и что сокрыто
от тебя, будет открыто, ибо нет ничего сокрытого, что не стало бы явным, и
погребенного, что не было бы воскрешено". В Евангелии от Матфея (10:26)
отсутствуют слова о воскрешении погребенного. Образ воскресения из мертвых во
время страшного суда — это все тот же круг представлений, связанных с концом
света и установлением царства божия на земле. Но против догмата о воскресении
во плоти выступали многие христианские группы: и те, которым остатки античного
рационального подхода не позволяли поверить в него, и те, которые видели в
новом учении прежде всего путь к духовному спасению. Чем меньше надежд
оставалось на скорое второе пришествие, тем больше возражений вызывало учение о
воскрешении мертвых. Эти споры нашли свое отражение и в произведениях
христианских писателей II в. Ириней в своем сочинении "Против
ересей" большой раздел посвятил "доказательству" воскресения
тела. Церковь в конце концов признала этот догмат. Но в период создания новозаветных
евангелий споры были еще в разгаре; в Евангелии от Матфея, где "царство
божие" заменялось на "царствие небесное", конец логия был
закономерно опущен.
Известная фраза о том, что пророк не бывает признан в своем отечестве,
приведенная во всех четырех евангелиях Нового завета, в оксиринхском папирусе
также дана в более развернутом варианте: "Не бывает принят пророк в своем
отечестве, да и врач не лечит знающих его". Конца фразы о враче в Новом
завете нет. С этим логием по смыслу перекликается неканоническое речение, упомянутое
у христианских писателей: "Те, кто со мной, не понимают меня". В
новозаветных сказаниях также проскальзывает сетование на непонимание слов и
поучений Иисуса его близкими и учениками, но христианская традиция,
возвеличившая апостолов, смягчала противопоставление Иисуса его ученикам. Фраза
о пророке, не признанном в своем отечестве, в процессе развития христианства
стала восприниматься как одно из оснований разрыва с иудаизмом: иудеи не
признали Христа. Такому пониманию этой фразы не соответствовал образ врача, не
лечащего знающих его. В логии же этот образ несет двойную нагрузку: это и
божество, исцеляющее человеческие души, и в то же время конкретный пророк
Иисус, основная деятельность которого заключалась в исцелении
"бесноватых", т. е. нервнобольных. В Евангелии от Марка слова о
пророке как раз и приводятся в рассказе о том, что Иисус не мог у себя в
отечестве совершить никакого чуда, только немногих больных исцелил (6:4-5). С
развитием представлений об Иисусе как о сыне божием, всемогущем и всезнающем, с
усилением элементов чудесного в рассказах о нем образ врача, лечащего не всех и
не все болезни, перестал соответствовать этим представлениям. В евангелиях от
Матфея и от Луки Иисус не "не смог", а не пожелал совершить многие
чудеса, в Евангелии же от Иоанна фраза о пророке, не признанном в своем
отечестве, приведена в отрыве от контекста. После этой фразы говорится о чуде в
Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино (4:44-46). Мы не можем
утверждать, что речения оксиринхских папирусов представляют собой наиболее
раннюю их версию, созданную устной традицией. Они воспроизводились по памяти и
видоизменялись в соответствии с воззрениями тех христианских общин, в которых
делались записи. Эти речения свидетельствуют о постоянном развитии христианской
традиции — устной и письменной, об ее неустойчивости, об отсутствии ко времени
создания основных "священных" книг твердо установленных компонентов
христианского учения, даже таких важных, как слова, вложенные в уста Иисуса.
Многие из неканонических речений представляются весьма ранними, имевшими
хождение в среде первых христиан до оформления новозаветных евангелий и
евангелий иудео-христианских групп.
Отдельные поучения, даже сведенные в сборник, не дают, однако, представления
о содержании конкретных направлений в христианстве. В становлении нового учения
наиболее важную роль сыграли евангелия — рассказы о деяниях Иисуса, его жизни и
смерти (евангелия новозаветного типа) или связанные внутренним единством
изложения религиозного учения (евангелия, найденные в Хенобоскионе).
Среди найденных в Египте папирусов есть два фрагмента, близкие к
новозаветным евангелиям, но все же не тождественные им. В одном из них (он
перекликается с отдельными местами из евангелий от Марка, Матфея и Луки)
рассказывается о приходе Иисуса с учениками в храм. Жрец по имени Леви упрекает
его в том, что он осмелился войти в это чистое место, не омыв себя, а его
ученики не вымыли ног. Иисус спрашивает жреца: "А ты чист?" На что
тот отвечает, что омылся и надел чистые одежды. Тогда Иисус разражается гневной
речью против формального понимания чистоты: "Ты омылся в стоячей воде, в
которой собаки и свиньи лежат день и ночь, и ты омылся и натер свою кожу, как
блудницы и флейтистки душатся, моются, натираются (благовониями) и краской,
чтобы возбудить желание, а внутри они полны скорпионов и пороков. Но я и мои
ученики, о ком ты сказал, что они нечисты, мы омылись в живой воде, которая
нисходит (с небес)..." Здесь проводится основная идея раннего христианства
— необходимость внутреннего, духовного очищения, отказ от формального
соблюдения обрядов, которое было свойственно не только иудаизму, но и древним
религиям вообще. В евангелиях от Марка и от Матфея есть смысловые параллели
этому рассказу: книжники и фарисеи упрекают учеников Иисуса в том, что те едят
хлеб немытыми руками (Мк.7:1-6; Мф.15:1-3).
В папирусном фрагменте встречаются семитизмы. Это позволяет предполагать,
что автор был, вероятно, из иудеев и поэтому хорошо знал порядки в
Иерусалимском храме. Обращает на себя внимание и отрицательное отношение к
блудницам и флейтисткам (последние упоминаются также в отрывке из одного
иудео-христианского евангелия), характерное для ортодоксального иудаизма.
Составитель евангелия, в которое входил найденный фрагмент, был, по-видимому,
ближе к иудео-христианам, чем создатели новозаветных евангелий.
Другой отрывок, по мнению историков христианства, связан с кругом
представлений четвертого евангелия, но в нем отражена также и традиция,
использованная синоптиками. В этом фрагменте сохранилась часть рассказа о том,
как толпа начала собирать камни, чтобы забросать ими Иисуса: "И правители
наложили на него руки, намереваясь захватить его и предать толпе. Но они не в
состоянии были захватить его, так как час для его выдачи еще не пришел. Он сам,
господь, освободился из их рук и повернулся от них прочь..." Этот отрывок
похож на рассказ из Евангелия от Иоанна (7:30), где говорится, что Иисуса
хотели схватить, но "никто не наложил на него руки, потому что еще не
пришел час его". В приведенном выше фрагменте содержится больше подробностей,
которые должны были показать чудодейственную силу Иисуса: его уже схватили, но
он сам освободился. Включение таких деталей отвечало потребности верующих
видеть в Иисусе не человека, а всемогущее божество, усиливало идею
добровольности его последующей жертвы. Вообще, постепенное усиление элементов
чудесного в сказаниях об Иисусе ясно прослеживается во всей христианской
литературе I—IV вв.
Связь текстов папирусов с материалом евангелий Нового завета видна и в
описании эпизода, который касается уплаты подати римскому императору. Согласно
евангелиям от Марка (12:13-17), от Матфея (22:16-21), от Луки (20:20-25),
Иисусу с провокационной целью задали вопрос: "Учитель!.. Позволительно ли
давать подать кесарю или нет?" В ответ на это Иисус и произнес знаменитую
фразу: "Отдавайте кесарево кесарю, а божие — богу". Из текста
папирусного фрагмента следует, что Иисус уклонился от ответа на этот вопрос. Он
упрекает спрашивающих в том, что они не слушают и не понимают его: "Иисус
же, зная их образ мыслей, смятенный нечестием, сказал им: "Зачем вы
называете меня своими устами "учитель", если вы не слушаете то, что я
говорю? Хорошо Исаия пророчествовал о вас: этот народ почитает меня своими
устами, но сердце его далеко от меня и почитание их тщетно, они чтут заповеди
человеческие..."
Своим возмущением Иисус как бы дает понять, что его учение призвано
открывать божественные истины, а не давать советы по каждому конкретному
случаю, не определять поведение в мире. Это было понятно первым христианам,
которые требовали отречения от мира, не принимали всей системы духовных (в том
числе и политических) ценностей римского общества. Вопрос, платить или не
платить подать, не был для них особенно важным, поскольку они ждали скорого
наступления царства божия, где не будет ни императоров, ни податей. Но для
людей, которые отказывались от активной (и безнадежной в тех условиях) борьбы
за реальное изменение условий своей жизни, для которых царство божие стало
отодвигаться в неопределенное будущее[11], которые вынуждены были включаться в повседневную
жизнь, существовать в "мире", вопросы конкретного поведения,
допустимости и недопустимости определенных поступков с точки зрения
христианской этики стояли достаточно остро. И составители Нового завета
признали право императора на сбор податей, на управление мирскими делами. А вот
поклонение ему как богу было уже невозможно: божие только богу. Вера в то, что
император так же подвластен воле божией, как и самый последний нищий, создавала
иллюзию равенства в духе, поддерживала надежду на спасение всех истинно
верующих, независимо от их положения на земле.
Евангелия, фрагменты которых сохранили папирусы, были созданы или раньше
канонических, или одновременно с ними. Авторы тех и других евангелий черпали
свой материал из одних и тех же устных рассказов или первых записей. Как и
речения Иисуса, евангельские отрывки свидетельствуют о неустойчивости и
неопределенности христианской традиции, в том числе и той, которая легла в
основу Нового завета. Мы не знаем точно, какие группы создали эти евангелия.
Возможно, это были первые христианские экклесии, состоявшие еще преимущественно
из иудеев.
ИУДЕОХРИСТИАНСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
У христианских писателей II—IV вв. неоднократно упоминаются евангелия
иудео-христиан, т. е. христиан (в том числе и палестинских), не порвавших
с иудаизмом. Среди этих евангелий называются евангелия эбионитов, назореев,
евреев, евангелие двенадцати апостолов, Первые три первоначально имели свои
особые названия. Современные ученые не всегда могут с уверенностью определить,
говорят ли древние писатели о разных евангелиях, или они разными названиями
именуют одни и те же иудеохристианские группы. Наиболее распространена точка
зрения, что существовали три отличных друг от друга евангелия: эбионитов
(возможно, совпадавшее с евангелием двенадцати апостолов), назореев, евреев.
Евреями сторонники ортодоксального направления называли всех иудеохристиан.
Назореи и эбиониты — самоназвания христианских групп, вероятно самых ранних.
Епископ Епифаний, живший в IV в., рассказывает, что назореи жили в Палестине
и пользовались "священными" книгами "оссеев" (искаженное
"ессеи"). По-видимому, "назореи" было общим названием для
членов сект, принимавших крещение в Иордане, в том числе тех, которых крестил
Иоанн. Впоследствии иудеи стали называть назореями всех христиан, а
"назорейской ересью" — христианство (Деян. 24:5).
Евангелие назореев было написано на арамейском языке — разговорном языке
Палестины. Оно представляло собой версию (возможно, более древнюю) Евангелия от
Матфея. У Папия сказано, что Матфей собрал изречения Иисуса на еврейском языке
(он имел в виду арамейский язык), а остальные, как могли, перевели их на
греческий. Эти слова указывают на то, что Папий знал о существовании
иудеохристианского евангелия, написанного по-арамейски.
Эбиониты были группой, связанной с назореями (может быть, это были разные
названия одной и той же группы). Слово "эбиониты" восходит к
кумранскому "эвионим" — нищие. Первоначально, вероятно, только вера в
уже совершившийся приход мессии отличала эбионитов, веривших в Иисуса, от эбионитов
— последователей Учителя праведности. Христиане-эбиониты выполняли предписания
иудаизма: совершали обрезание, праздновали субботу. Некоторые современные
ученые считают, что выражение "нищие", повторяющееся в новозаветных
евангелиях и посланиях, означает самоназвание христиан-эбионитов в переводе на
греческий. Так, в послании Павла к галатам говорится, что Иаков, Кифа и Иоанн,
руководители палестинских христиан, поручили Павлу и Варнаве идти проповедовать
к язычникам, "только чтобы мы помнили нищих" (2:10).
Иудеохристиане пользовались большим влиянием на протяжении всего периода
формирования христианства. Римский епископ Виктор в конце II в. объявил
отступниками тех малоазийских христиан, которые праздновали пасху вместе с
иудеями, но затем он вынужден отменить свое решение: на стороне этих христиан
был авторитет давности. В ряде районов Сирии и в III в. общины
иудеохристиан занимали главенствующее положение среди разных христианских
общин. В некоторых средневековых мусульманских трактатах христианское учение
излагается именно в его иудеохристианской (эбионитской) версии.
Со второй половины II в. христианские писатели, развивавшие
направление, которое было заложено посланиями Павла, активно выступали против
эбионитов. Из этой полемики мы и узнаем о некоторых элементах их учения.
Эбиониты-христиане, как и их кумранские предшественники, учили, что в мире
существуют две силы — добро и зло[12].
Бог не мог создать зло и несправедливость, он — воплощение абсолютного добра.
Между силами добра и зла идет непрерывная борьба. Каждая из этих сил имеет
своего пророка на земле. Таким пророком добра был Иисус; а апостола Павла,
выступавшего против соблюдения норм иудейской религии, искавшего путей
приспособления христианства к окружающему миру, эбиониты считали пророком
дьявола. У них была в ходу "антибиография" Павла. Ириней писал, что
эбиониты пользуются только одним евангелием — от Матфея. Это евангелие, судя по
пересказу его содержания, не совпадало с каноническим. В нем отсутствовала
генеалогия Иисуса, учение о непорочном зачатии. Для эбионитов Иисус был сыном
Иосифа и Марии, бедным человеком. Он отличался справедливостью, благоразумием и
мудростью. При крещении на него сошел дух святой, который при распятии покинул
его ("Против ересей", I, 26). В евангелии эбионитов
рассказывалось, что, когда во время крещения Иисус вошел в воду, раздался голос
с неба: "Ты сын мой возлюбленный, я дам тебе знамение. И снова днесь я
родил тебя..." Аналогичный отрывок содержится в близком эбионитам
Евангелии евреев[13]. Там святой дух
говорит Иисусу: "Мой сын, из всех пророков я ждал тебя, что ты придешь, и
я могу покоиться в тебе. Ибо ты мой покой. Ты мой сын первородный и будешь
править вечно". В отличие от канонических евангелий, здесь к Иисусу
обращается святой дух, который объявляет ему, что он (Иисус) сын духа святого.
В Евангелии от Марка — самом раннем из синоптических евангелий — и в Евангелии
от Луки сохранено выражение "ты сын мой", но его произносит не святой
дух, а голос с неба. В Евангелии от Матфея этот эпизод приобретает иное
звучание: там говорится, что Иоанн Креститель увидел духа божия, сходившего как
голубь, а голос с небес провозгласил: "Сей есть сын мой возлюбленный, в
котором мое благоволение" (3:17). Казалось бы, разница между двумя
рассказами несущественна, а между тем за ней стоят совершенно различные
трактовки образа Иисуса, В иудео-христианских евангелиях (возможно, также и в
Евангелии от Марка, где нет рассказа о чудесном рождении Иисуса) голос
обращался к Иисусу, возвещая ему о его предназначении, Иисус получил знамение,
что в него вошел святой дух, и поэтому он начал свою проповедническую
деятельность. В Евангелии же от Матфея знамение было не для Иисуса, а для
Иоанна и окружавших людей: "Сей есть сын мой..." Иисус — сын божий не
мог не знать о своей миссии; Иисус — сын Иосифа и Марии узнал о ней из слов
святого духа, который будет "покоиться в нем". В Евангелии евреев
происходит как бы мистическое соединение духа и человека, воплотившего в себе
всех ожидавшихся пророков, "сынов духа святого". В арамейском тексте
"дух" мыслился как мать, а не как отец, ибо по-арамейски ruah (дух)
женского рода. Это выражало представление о новом — от духа — рождении. У
Иисуса, таким образом, была мать во плоти и мать в духе, и именно соединение с
матерью-духом сделало Иисуса мессией. Такая концепция противоречила учению о
богочеловеке; мать-дух, вероятно, уже не фигурировала в устной проповеди
христиан, говоривших по-гречески (в греческом языке "дух" среднего
рода). И в евангелии эбионитов и в Евангелии евреев важнейшим актом в деятельности
Иисуса было крещение. Эта традиция отражена и в самом раннем каноническом
Евангелии от Марка, которое тоже начинается с крещения Иоанном народа и прихода
к нему Иисуса; сразу же после крещения Иисус проходит искушение в пустыне
(эпизод, свидетельствующий о восприятии Иисуса человеком, а не божеством) и
затем уже начинает проповедь. В дальнейшем в других канонических евангелиях
происходит переосмысление древней традиции; мессианство Иисуса для почитателей
этих евангелий определялось его рождением, а не крещением. Характерно, что в
Евангелии от Иоанна, где Иисус с самого начала провозглашен Словом божьим
(логосом), нет описания его крещения, хотя Иоанн Креститель упомянут.
В Евангелии евреев Иисусу предсказывается вечное царствование — здесь опять
ярко выражена вера в приход царства божия на земле. Этих слов в соответствующих
местах канонических евангелий нет.
Сравнение двух версий о крещении Иисуса позволяет сделать вывод, что вера в
непорочное зачатие сравнительно позднего происхождения. Это косвенно подтверждает
и противник эбионитов Ириней, писавший о них: "безрассудны также эбиониты,
которые не принимают в свою душу соединения бога и человека, но пребывают в
старой закваске плотского рождения". Здесь ясно подчеркивается, что учение
эбионитов старое.
В новозаветных евангелиях от Марка и Матфея упоминаются братья и сестры
Иисуса: "Не плотников ли он сын? не его ли мать называется Мария, и братья
его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры его не все ли между нами?"
(Мф.13:55-56; Мк.6:3). Поскольку у первых христиан не было представлений о
непорочном зачатии, существование у Иисуса братьев и сестер казалось им вполне
естественным. Но затем, в процессе обожествления образа Иисуса, он стал
мыслиться как сын божий. Под влиянием древних мифов появилась идея непорочного
зачатия (от соединения божества с земной женщиной). В Евангелии от Матфея
объединены и рассказ о непорочном зачатии, и поименное перечисление братьев
Иисуса, взятое из более ранних писаний. Однако с распространением веры в
непорочное зачатие и в девственность Марии наличие сестер и братьев Иисуса
стало ощущаться как противоречие, не соответствующее этой вере. В церковных
кругах возникла целая дискуссия, Ориген (начало III в.) считал,
например, что эти братья и сестры — дети Иосифа от первого брака. В IV в.
было выдвинуто утверждение, что речь идет о двоюродных братьях. Эта концепция
по сей день господствует в католической и православной церквах.
Отсутствие у иудеохристиан идеи Иисуса-богочеловека, рожденного Марией, на
которую "сошел" дух святой (Лк.1:35), видно и из другого отрывка
Евангелия евреев, где сказано от имени Иисуса: "Дух святой — матерь
моя". В этой фразе ощущается связь с арамейской традицией: дух святой
представляться жителям Палестины не мог отцом Иисуса. Сама мысль о зачатии Марией
от духа святого могла возникнуть только в среде, где не говорили по-арамейски.
Вплоть до официального признания в IV в. основных христианских догматов
споры о непорочном зачатии не затихали. Одни группы, подобно иудеохристианам,
считали Иисуса только человеком, другие — только богом (святым духом),
принявшим человеческий облик.
Кроме расхождения по вопросу о том, кем явился в этот мир Иисус — пророком
(в Евангелии евреев сказано: "Из всех пророков я ждал тебя") или
богочеловеком, между иудеохристианскими и каноническими евангелиями
существовали и другие отличия. У иудеохристиан было резче выражено требование
отказа от богатства. В отрывке из Евангелия назореев (или евреев) приводится
разговор Иисуса с богатым человеком: "Сказал ему другой богач: Учитель, какое
доброе дело совершая, я буду жив? Сказал ему: Человек, поступай согласно Закону
и пророкам. Отвечал ему: поступал. Сказал ему: Ступай, продай все, чем ты
владеешь, отдай нищим и следуй за мной". Далее в отрывке рассказывается,
что эти слова не понравились богачу, и тогда Иисус стал упрекать его:
"Много братьев, сынов Авраама, покрыты грязью и умирают с голоду, а твой
дом полон богатства и ничего достойного не переходит к ним". Кончается
рассказ знаменитой фразой, вошедшей и в новозаветные евангелия: "Легче
верблюду (возможен и другой перевод — канату[14]) войти в игольное ушко, чем богатому в царство
божие".
Разговор Иисуса с богатым юношей передается и в Евангелии от Матфея, но в
несколько ином варианте: "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за мною" (19:21). Отрывок из Евангелия назореев
проникнут живым сочувствием к тем, кто нищенствует и умирает с голоду;
богатство кажется злом именно по сравнению с их бедностью. В Евангелии от
Матфея акценты переставлены. Отказ от богатства выступает здесь лишь как
средство стать совершенным и получить награду на небесах: важно не реальное
улучшение положения нищих, а достижение духовного совершенства. Другими словами,
богатство дурно не само по себе, а как цепь, привязывающая человека к мирским
делам.
При внимательном сопоставлении этих двух отрывков создается впечатление, что
слова "и будешь иметь сокровище на небесах" вставлены позднее в
сложившийся текст речения: они не вяжутся с последующим "и приходи и
следуй за мною" (после получения сокровища на небесах?). Апокрифическая
версия этого диалога связана с теми же настроениями христиан из социальных
низов, которые породили представление о материальном изобилии в царстве божием,
отраженное в рассказе Папия.
Особенностью учения эбионитов было резко отрицательное отношение к
жертвоприношениям и проповедь аскетизма, в частности отказа от мясной пищи. В
одном из дошедших до нас фрагментов евангелия эбионитов Иисус говорит: "Я
пришел отменить жертвоприношения. Если вы не оставите жертвоприношений, гнев
божий не оставит вас". Однако не все первые христианские группы стояли на
этих позициях: например, согласно Евангелию от Марка, Иисус велит исцеленному
им человеку принести за это, "что повелел Моисей" (1:44). Осуждение
жертвоприношений встречается уже в Ветхом завете, в частности в тех текстах
Книги Исаии, которые были созданы после возвращения иудеев из Вавилонии по
разрешению персидского царя Кира, а также в Псалмах. Эбиониты продолжили эту
линию. Интересно, что в новозаветном Послании к евреям (автором которого не
признавали Павла уже некоторые христианские писатели) в уста Иисуса
вкладываются следующие слова из псалма: "Жертвы и приношения ты не
восхотел, но тело уготовал мне" (39:7-9). В тексте Септуагинты, по
которому цитируется этот псалом, вместо "тело" стоит "уши"
("ты открыл мне уши"). Смысл фразы, приведенной в Послании к евреям,
заключается в том, что Иисус принес в жертву свое тело и тем самым сделал
ненужными все жертвоприношения. Вероятно, Иисус произносил эти слова в
евангелии эбионитов, а оттуда они попали в Послание к евреям (в канонических
евангелиях такого речения нет).
В отдельных эпизодах из нудеохристианских евангелий больше бытовых деталей,
чем в соответствующих местах Нового завета, персонажи имеют конкретную
социальную характеристику. Например, в новозаветном Евангелии от Иоанна
рассказывается, что после ареста Иисуса за ним последовал Петр и "другой
ученик", который был знаком первосвященнику (18:15). В Евангелии
назореев было дано объяснение, откуда этот ученик был известен жрецам: он
продавал им рыбу. А вот эпизод с излечением человека с сохнущей рукой: в
Евангелии от Матфея Иисус излечивает в синагоге человека с сухой рукой; человек
этот не говорит ничего; весь эпизод служит иллюстрацией к словам Иисуса о том,
что и в субботу можно творить добро. В Евангелии назореев этот человек наделен
индивидуальностью: он каменщик, болезнь руки лишает его возможности заниматься
своей профессией. Он обращается к Иисусу: "Я был каменщиком и зарабатывал
на жизнь своими руками, я прошу тебя, Иисус, возврати мне здоровье, чтобы я не
просил с позором милостыни". Здесь ярко отражена психология трудящегося
человека: просить милостыню для него позор. Этих деталей нет в новозаветных
евангелиях; для людей, создавших их, в нищенстве, как и телесном уродстве, не
было ничего позорного. В известном смысле существование нищих[15] было необходимым компонентом в христианской системе
ценностей: и потому, что бремя страданий, преодоление искушений мыслилось как
путь к царству божию, и потому, что помощь нищим давала возможность богатым
достичь "совершенства".
Образы ученика, продающего рыбу, и каменщика., исцеленного Иисусом, отражали
те социальные слои, среди которых создавались иудеохристианские евангелия. Те
же люди в Апокалипсисе Иоанна предсказывали гибель ненавистного Рима
("пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда
своего напоил все народы" (14:8). Но в том направлении христианства,
которое отстаивал Павел и которое в конечном счете получило наибольшее
распространение, провозглашалась возможность спасения через веру в Христа для
всех — иудеев, эллинов, варваров, рабов и свободных. Здесь не только раб
приравнивался к свободному, а варвар — к эллину, что было очень важно для
самосознания всех неполноправных жителей Римской империи, но и свободные
приравнивались к рабам, а иудеи — к скифам. Низы общества уже не получали
преимущества перед верхами, а иудеи — перед другими народностями. И нищий, и
приближенный императора, согласно этому учению, одинаково нуждались в спасении
и одинаково могли спастись. Поэтому и социальная принадлежность персонажей
новозаветных сказаний (там, где эта принадлежность не была прочно закреплена
традицией) стала несущественной: исцеленный сухорукий каменщик оказывается
просто неизвестным человеком.
Иначе, чем в каноне, в Евангелии евреев изложена и притча о талантах. В
Евангелии от Матфея рассказывается, что один человек, отправляясь в чужую
страну, дал трем своим рабам по несколько талантов (мера веса) серебра. Двое из
рабов пустили их в дело и вернули господину с прибылью. Третий же, боясь
господина, пошел и закопал серебро в землю. Когда господин вернулся, он обещал
награду двум первым рабам, а у третьего велел отнять его таланты, самого же его
выбросить "во тьму внешнюю" (25:14-30). Смысл этой притчи — в
необходимости активного служения богу, активной проповеди нового учения.
Притчи занимают большое место в евангелиях — и канонических, и
апокрифических. Используя реальные образы и ситуации, притчи придавали им иное,
духовно-религиозное значение: рабы людей превращались в рабов божиих, сокровища
мирские — в сокровища веры. Тем самым действительность становилась нереальной,
а религиозная символика — истинной реальностью. Форма притчи, как и образная
система речений, вводила элемент тайны в поучения проповедников христианства —
тайны, доступной только для избранных, поверивших в Иисуса (в Евангелии от
Матфея Иисус объясняет ученикам, для чего он говорит притчами: "Для того,
что вам дано знать тайны царствия небесного, а им не дано" (13:11).
В разных произведениях христианской литературы притчи при сохранении
основной символики расцвечивались различными деталями, а иногда могли и менять
свой смысл. В Евангелии евреев, согласно Евсевию Кесарийскому, также действует
господин и трое его слуг. Но наказанию подвергается не тот, кто спрятал деньги,
а тот, кто жил беспутно (один из слуг, получивших серебро, умножил богатство,
второй его спрятал, а третий растратил все данное ему с блудницами и флейтистками.
Первый был принят господином с радостью, второй только подвергся упрекам, а
третьего бросили в тюрьму). Эта версия кажется внутренне более стройной, чем в
канонических евангелиях, где второй раб (также приумноживший состояние) не
несет, по существу, никакой смысловой нагрузки; противопоставляются только
первый и третий: талант раба, зарывшего его, отдается первому рабу. В Евангелии
евреев каждый раб поступает по-своему и соответственно вознаграждается. Самое
страшное, согласно этой версии, — погубить свою душу в мирских утехах. Опять
настойчивый мотив раннехристианских поучений — отречение от мира. Речь в этом
отрывке идет о поведении людей, о разной степени их "греховности":
человек, никак не проявивший свою веру, все же достоин меньшего наказания, чем
растративший ее в общении с миром. Любопытно упоминание о флейтистках (как и в
папирусном фрагменте неизвестного евангелия): девушки-музыкантши были
непременными участницами пиров, которые устраивали богатые люди греческих
полисов. Иудеи и иудеохристиане осуждали эти обычаи, они приравнивали
флейтисток к блудницам.
В канонических евангелиях приведена уже измененная версия притчи о талантах.
Смысл ее более абстрактен: главное — служение вере; все отказывающиеся от этого
служения понесут наказание. Вариант этой притчи у Луки, хотя и с другими
подробностями, имеет тот же смысл.
Особое место в иудео-христианских евангелиях занимал Иаков, брат Иисуса. В
отличие от новозаветных сказаний, в Евангелии евреев говорится, что именно
Иакову первому явился воскресший Иисус. Он "принес хлеб и благословил и
дал Иакову праведному и сказал ему: брат мой, ешь хлеб твой, ибо сын
человеческий восстал ото сна среди спящих". Иаков, таким образом, рисуется
здесь первым свидетелем воскресения. Такая роль Иакова, видимо, связана с
преданием о том, что он был одним из главных руководителей палестинской
общины[16]. Иудеохристиане выделяли
среди учеников Иисуса своих апостолов, так же как это делали христиане других
направлений, приписывая им особо важную роль.
Мы рассмотрели содержание нескольких фрагментов иудеохристианских евангелий.
Разумеется, эти евангелия тоже переделывались в процессе борьбы между
отдельными христианскими группами, и мы не можем точно определить время
создания тех отрывков, которые приводят христианские писатели. Но в целом то
немногое, что нам известно об этих евангелиях, позволяет думать, что
религиозные представления, отраженные в них, формировались в I в. частично
в среде палестинских сект, частично в среде иудеев, живших в восточных
провинциях Римской империи. Традиция, использованная иудео-христианскими
писаниями, не менее, а в отдельных случаях более древняя, чем традиция, которая
легла в основу Нового завета.
Эбиониты и назореи, как и создатели Апокалипсиса Иоанна, проповедовали
полное отречение от мира и готовились встретить второе пришествие Христа. Они
надеялись на установление царствия божия на земле и выступали против богатства.
Но подобные настроения и верования не могли быть господствующими среди широких
масс населения римской державы сколько-нибудь длительное время. Фанатическое
ожидание скорого конца света, по мере того как этот конец отодвигался в
неопределенное будущее, ослабевало; да и само представление о чудесном изобилии
в царстве божием было слишком сказочным и наивным. Никаких путей реального
улучшения положения бедняков христиане, по существу, не знали. Не принимая
окружающего их общества, они в то же время не могли ни изменить его, ни
.представить себе конкретно какое-либо другое. В этих условиях в христианском
учении все большее место занимают поиски духовного очищения, вера в награду на
небесах. Изменение социального и этнического состава христиан также
способствовало отходу от иудеохристианства: приверженность эбионитов к
иудейской обрядности, чуждой новообращенным язычникам, не могла не вызывать
протеста с их стороны.
Иудеохристианство во II в. становится лишь одним из многочисленных
направлений христианства, с которым формирующаяся церковь ведет ожесточенную
борьбу. Но влияние его продолжало сказываться на протяжении всей истории раннего
христианства, вплоть до официального признания этой новой религии в IV в.
ПИСАНИЯ ПЕТРА И "ПАСТЫРЬ" ГЕРМЫ
ЕВАНГЕЛИЕ ПЕТРА
Среди христианских книг, не признанных церковью, особое место занимают
писания, связанные с именем апостола Петра: отрывок из евангелия, названного
его именем, и Апокалипсис Петра. Оба эти сочинения, очень разные по содержанию
и стилю, отражают важные изменения, происходившие в христианстве с начала
II в.
Согласно Новому завету, Петр был первым учеником Иисуса. Почитание его
играло и играет большую роль в христианской церкви, особенно католической. По
христианской легенде, именно Петр был основателем римской религиозной общины,
соответственно папа римский считается преемником Петра. В Евангелии от Матфея
имеется фраза, которая возвеличивает Петра и на которой основывают свои
притязания папы римские: "Ты — Петр (греч. "камень". — И. С.),
и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и
что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (16:18-19).
Вероятно, эта фраза — сравнительно поздняя редакторская вставка. Ее нет в
других канонических евангелиях, ее не упоминают писатели II в. Появилась
она, скорее всего, тогда, когда римские епископы боролись за создание единой
церковной организации под своим началом. Но Петр почитался не только римской
общиной. И в Деяниях апостолов, и в посланиях Павла он выступает как один из
руководителей палестинской общины, сторонник иудеохристианства, призванный
проповедовать новое учение именно среди иудеев. Поэтому иудеохристианские
группы также считали Петра своим апостолом. Трудно представить себе, чтобы под
именем этого столь почитаемого апостола не появились "священные"
книги первых христиан. В Новый завет включены два небольших послания,
написанные от его имени. Но среди апокрифической литературы существовало
Евангелие Петра, которое знал Юстин, и Апокалипсис Петра, который упомянут в
"Каноне Муратори". Почему же эти произведения были отвергнуты
церковью? О чем они повествовали?
Как уже говорилось, в Ахмиме (Египет) в могиле средневекового монаха были
найдены отрывок из этого евангелия и Апокалипсис Петра. Произведения были
написаны по-гречески. В отрывке из евангелия автор называет себя "я,
Петр". Евангелие Петра вызвало большие споры и в среде теологов, и в среде
ученых. Богословы старались доказать позднее происхождение и
"подложность" Евангелия Петра; ученые-историки стремились ответить на
вопросы, где, когда и какими христианскими группами создано это евангелие.
Полного единодушия в решении этих вопросов до сих пор нет, — может быть,
отчасти потому, что Евангелие Петра впитало в себя взгляды разных групп и
характеризует своеобразный переходный период в истории первоначального христианства,
когда шло нарастание чудесного в рассказах об Иисусе, когда разгорелись споры о
виновности иудеев в его распятии, когда вера в близкое царство божие на земле
сменялась верой в индивидуальное загробное воздаяние.
Отрывок, найденный в Ахмиме, начинается с описания суда над Иисусом. Во
главе судей оказывается Ирод Антипа, римский ставленник, правитель Галилеи (по
его распоряжению еще раньше был казнен Иоанн Креститель). Понтий Пилат —
прокуратор Иудеи — умывает руки, он не хочет участвовать в этом судилище.
Смертный приговор выносит Иисусу именно Ирод: "Ирод, царь, повелевает
взять господа, сказав им (судьям), что я повелел сделать вам с ним,
делайте". Иисуса схватили, по дороге к месту казни над ним всячески
издевались: "Одели его в порфиру и посадили его на судейское кресло,
говоря — суди правильно, царь израильский". Подробно описывает автор этого
евангелия казнь, погребение и воскресение Иисуса. Его распяли меж двумя
злодеями. Один из злодеев пожалел его и сказал палачам, что они, разбойники,
несут наказание за свои злодеяния, но этот человек ни в чем не виновен. Тогда
стражники решили не перебивать, как обычно, разбойнику ноги, чтобы продлить его
мучения. "И тем свершили участь свою" (т. е. довершили свою
вину).
Иисус во время всех мучений не сказал ни слова. Только перед самой смертью
он воскликнул: "Сила моя, сила, зачем покинула меня!" И тут же
"отошел" (т. е. умер). Уже здесь видно не только фактическое, но
и принципиальное расхождение с Новым заветом. По каноническим евангелиям, Иисус
страдал и кричал на кресте. Один раз он вскрикнул: "Боже мой, боже мой,
для чего ты оставил меня!", а второй раз просто "возопил"
(Мф.27:46-50; Мк.15:34-37).
Существенные расхождения с новозаветной версией содержатся и в последней
части Евангелия Петра. После смерти Иисуса иудеи стали раскаиваться в
содеянном. "Книжники, фарисеи и старейшины, собравшись, услышали друг от
друга, что весь народ ропщет и бьет себя в грудь, говоря так: "Если из-за
смерти его были такие великие знамения, то вы видите, насколько он праведен".
Они очень испугались и пришли к Пилату, прося его: "Дай нам воинов, чтобы
они охраняли гроб его три дня, чтобы ученики его, придя, не украли бы его и
чтобы народ не поверил, что он воскрес из мертвых и не сделал бы нам
зла..." Пилат посылает стражников, а вместе с ними охранять гроб
отправляются иудейские старейшины, И тут на виду у всех происходит воскресение:
разверзаются небеса, два мужа сходят с неба, камень, прикрывающий вход,
откатывается сам собой, и они входят в гробницу. Затем они выходят оттуда, ведя
с собой третьего, причем "голова ведомого ими простиралась выше
неба", а за ними... сам по себе двигался крест. Картина совсем уж
фантастическая! Стража и старейшины в ужасе прибежали к Пилату, "будучи в
великом смущении и говоря: "Воистину сын был божий". Пилат отвечает:
"Я не повинен в этой крови, вы сами этого хотели". Тогда пришедшие
"стали умолять его, чтобы он приказал центуриону и воинам никому не
говорить о том, что они видели. Ибо, говорили они, мы предпочитаем быть виновными
в величайшем грехе перед богом, но не попасть в руки иудейского народа и не
быть побитыми камнями". Пилат выполнил их просьбу и повелел центуриону и
воинам не говорить ничего. Дальше рассказывается, как Мария Магдалина с
женщинами тайком, опасаясь гнева иудеев, пришли к гробнице, как они увидели
открытый гроб и сидящего там юношу, который и возвестил им о воскресении
Иисуса. Отрывок обрывается на полуслове.
По своему типу Евангелие Петра близко к каноническим; в нем использована та
же традиция, во всяком случае частично, что и в евангелиях Нового завета: и тут
и там рассказывается о глумлении над Иисусом перед казнью, содержится обращение
к нему как к царю иудейскому. И в Евангелии от Матфея иудейские старейшины
просят Пилата: "Итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики
его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и
будет последний обман хуже первого" (27:64). Но в каноническом тексте
отсутствуют слова, выражающие страх перед народом.
Несколько иначе, чем в канонических евангелиях, у Петра описан суд над
Иисусом. Он происходит или в претории (резиденции римского наместника), или во
дворце Ирода. Ирод упоминается в числе судей над Иисусом в Деяниях
апостолов (4:27) и в Евангелии от Луки. В последнем содержится рассказ о
том, как Пилат, узнав, что Иисус — галилеянин, отправил его к находившемуся в
то время в Иерусалиме Ироду. Ирод подверг его допросу, но тот хранил молчание.
Тогда Ирод "со своими воинами, уничижив его и надсмеявшись над ним",
одел его в светлую одежду и отослал к Пилату (23:11). Далее следует
рассказ, соответствующий другим каноническим евангелиям, о том, что Пилат хотел
отпустить Иисуса, но толпа потребовала его смерти. Создается впечатление, что у
Луки произошло дублирование эпизода суда и объединение разных рассказов —
одного, который нашел отражение в новозаветных евангелиях, и другого, который
был использован в Евангелии от Петра. Насколько появление Ирода во главе судей
отражает реальную историческую ситуацию, сказать трудно, но исключать такую
возможность не следует, так как подсудимый происходил из подвластной Ироду
области.
Еще в одном месте Евангелия от Луки прослеживается связь с Евангелием от
Петра: у Луки также .говорится о горе и раскаянии народа. Там сказано, что
после казни Иисуса весь народ "возвращался, бия себя в
грудь" (23:48). В одном из ранних латинских переводов Евангелия от
Луки в этом рассказе содержатся слова о грядущем возмездии Иерусалиму,
совпадающие с тем, что сказано у Петра. Татиан, ученик Юстина, знал этот текст
и привел его в своем сочинении "Диатессарон" (свод четырех
новозаветных евангелий). Эта деталь связывает Евангелие от Петра с
иудеохристианскими писаниями: согласно средневековой традиции в них
рассказывалось, что множество иудеев, присутствовавших при казни, уверовали в
Христа.
Особенность трактовки образа Христа в Евангелии Петра заключается в том,
что, согласно этому евангелию, Христос не испытывал страданий. Некоторые ученые
на этом основании считали данное евангелие созданием группы христиан-докетов
(название происходит от греческого глагола "докео" — казаться),
которые считали телесное существование Христа нереальным,
"кажущимся". Естественно, что призрак не мог испытывать страданий.
Однако мы знаем, что были и такие группы христиан, которые отделяли пророка
Иисуса от святого духа, вошедшего в него. Судя по рассказам Иринея, так мыслили
и эбиониты: во время распятия святой дух покинул Иисуса. Поэтому становится
понятным крик Иисуса, переданный в Евангелии Петра: "Сила моя, сила, зачем
покинула меня!" Иисус не страдал, пока в нем пребывала некая высшая сила,
когда же она покинула его, Иисус-человек тут же умер.
Совсем иначе, чем в Новом завете, описано в Евангелии Петра воскресение;
свидетелями его выступают все, сторожившие гроб (враги Иисуса!). Создается
впечатление, что автор хочет во что бы то ни стало с помощью фантастических
деталей усилить впечатление чуда, доказать, что Иисус действительно божество.
Вероятно, ко времени создания евангелия уже достаточно широко распространилась
антихристианская иудейская версия, что ученики на самом деле украли тело
Иисуса, а потом объявили о его воскресении. В Евангелии Петра свидетелями
становятся именно те люди, которые распустили слухи о похищении тела, —
иудейские жрецы и старейшины.
Трудно сказать, какой смысл имело в этом евангелии самостоятельное шествие
креста. Возможно, автор не просто отделяет святой дух от Иисуса, а различает
образ Иисуса-тела и образ Христа — божественной сущности: Иисус как бы
воскресает отдельно от Христа. Такое представление было свойственно некоторым
учениям гностического толка. Но возможно, это была пока всего лишь
дополнительная деталь, использованная затем сторонниками мистических учений.
Воскресение Иисуса в фантастическом облике в этом случае могло быть связано с
традициями иудеохристианских писаний. Не случайно и в Апокалипсисе Иоанна,
самом близком к иудеохристианам произведении Нового завета, Христос не имеет
человеческого образа.
Важное отличие Евангелия Петра от новозаветных и ранних иудеохристианских
евангелий заключается в отсутствии в нем пророчеств о втором пришествии и
выраженного ожидания конца света. Там приведена только одна цитата из Ветхого
завета. Другими словами, в этом евангелии (если судить лишь по известному нам
отрывку) слабо представлена идея о том, что Иисус есть предсказанный мессия.
Его божественность доказывается не ссылками на пророков, а описанием чудес,
которые якобы сопровождали его казнь. Зато много внимания уделено проблеме вины
окружающих людей в смерти Иисуса. Эта проблема перед первыми его сторонниками
фактически не стояла: они ждали скорого возвращения Иисуса и уничтожения не
столько его врагов, сколько вообще всех носителей зла. Но с течением времени
вопрос о вине стал важным вопросом и в религиозном и в социальном отношении.
Вина требовала раскаяния и искупления. Поэтому бедствия, которые обрушивались
на людей в реальном мире, могли быть объяснены как наказание за вину перед
богом. В то же время определение степени виновности конкретных людей —
иудейского народа, иудейского жречества, римских правителей и воинов — означало
для христиан возможность (или невозможность) сотрудничества с римским
государством, необходимость (или ее отсутствие) разрыва с иудаизмом.
Отношения христиан с правоверными иудеями в первой половине II в.
обострились не только из-за нежелания "язычников" признавать чуждую
им обрядность, но и в силу политической обстановки в Римской империи. В
132 г. вспыхнуло новое восстание в Иудее, во главе которого встал Симон
бен Косеба. Он объявил себя мессией и стал называться Бар-Кохба — "сын
звезды". Бар-Кохбу поддерживала в основном палестинская беднота;
большинство иудейского жречества не признало его и дало ему презрительное
прозвище Бар-Козба, что означает "сын лжи". Восставшие развернули
настоящую партизанскую войну; Иерусалим оказался в их руках. Многие недовольные
существующими порядками за пределами Иудеи пытались оказать им помощь. Часть
иудео-христиан поверила, что это и есть конец света. Палестинские христиане
первоначально примкнули к восстанию, но они отказались называть Бар-Кохбу
мессией, и между ними начался конфликт. Среди рукописей, найденных в
окрестностях Мертвого моря, обнаружены письма, адресованные Бар-Кохбой
руководителю восставших, которые засели в пещерах на берегу этого моря. В одном
из писем упомянуты "галилеяне", под которыми, возможно, подразумевались
христиане.
Отборные римские войска были брошены на подавление восстания. Сам император
Адриан приезжал наблюдать за военными действиями. В 135 г. римляне вошли в
Иерусалим. Бар-Кохба был убит. Последствия этого поражения оказались гибельными
для иудеев: их выселили из Иерусалима и под страхом смерти запретили
приближаться к городу. Сам город был переименован в Элиа Капитолина, а на месте
иерусалимского храма был воздвигнут храм главного римского бога Юпитера.
Разгром еще одного иудейского восстания заставил руководителей большинства
христианских общин окончательно порвать с иудаизмом. Конца света так и не
произошло. Поражение иудеев нужно было объяснить с религиозной точки зрения.
Самым простым объяснением было утверждение о виновности иудеев в смерти Христа
и о заслуженном наказании их. Но, как это обычно бывает, с религиозными
соображениями тесно переплетались политические интересы: христианские
старейшины и епископы искали путей примирения с государственной властью, хотели
включения христиан в римское общество, ибо вне его они могли восприниматься
только как мятежники, которых нужно гнать и преследовать. Печальный опыт
второго иудейского восстания еще раз показал безнадежность борьбы с
императорским Римом. Руководители многих христианских общин, прежде всего
западных, стремились убедить власти в лояльности христиан, а верующих — в
необходимости подчинения императору. Обвинение всего мятежного иудейского
народа в казни Иисуса и одновременное оправдание римского прокуратора Понтия
Пилата, без санкции которого на самом деле не мог быть приведен в исполнение ни
один смертный приговор, отвечало этим стремлениям. И вот в канонических
евангелиях рисуется очень маловероятная с точки зрения исторической
действительности картина суда над Иисусом: разъяренная толпа, подстрекаемая
первосвященниками, буквально вырывает у Пилата согласие на его казнь, заявляя:
"Кровь его на нас и на детях наших". Из-за этой фразы, вероятно
добавленной в первоначальную редакцию каким-либо переписчиком, впоследствии тысячи
были принесены в жертву религиозному фанатизму. Некоторые ученые, в частности
Робертсон, полагают, что именно после разгрома восстания Бар-Кохбы в Первом
послании Павла к фессалоникийцам (в целом более раннем) появились проклятия в
адрес иудеев, "которые убили и господа Иисуса и его пророков, и нас
изгнали, и богу не угождают, и всем человекам противятся" (2:15).
В Евангелии Петра главные виновники смерти Иисуса — Ирод Антипа, иудейские
старейшины и жрецы. Народ, по существу, непричастен к ней, раскаяние его после
смерти Иисуса велико. Весь сохранившийся отрывок из Евангелия Петра пронизан
ненавистью к иудейским священникам. Очень определенно они противопоставлены
народным массам, страх иудейской верхушки перед народом подчеркивается тем, что
жрецы и старейшины были свидетелями воскресения Иисуса, поверили в него и тем
не менее решили обмануть народ из опасения "быть побитыми камнями".
Ирод Антипа также был фигурой, вызывавшей ненависть иудейских сектантов. Не
случайно ему отведена такая значительная роль в эпизодах суда над Иисусом.
В Евангелии Петра не снимается вина и с римских стражников. Чтобы
подчеркнуть ее, показана их жестокость по отношению к пожалевшему Иисуса
разбойнику. Своеобразно нарисован в евангелии образ Пилата. Пилат умывает руки
в суде (а не перед толпой, как в новозаветных евангелиях) и спокойно разрешает
Ироду Антипе и другим судьям делать свое дело. Он представляется скептиком,
которому нет дела до религиозных распрей. По просьбе знакомого иудея он даже
готов ходатайствовать перед Иродом о выдаче тела Христа, но в то же время,
выполняет просьбу старейшин поставить стражу к гробу Иисуса, а потом и скрыть
его воскресение. Вины в его смерти Пилат за собой не признает, но соглашается
участвовать в обмане народа. Одним словом, там, где речь идет о предотвращении
возможного выступления толпы, римский прокуратор не колебался.
Пилат, выведенный в Евангелии Петра, вряд ли хоть чем-нибудь напоминал
реального прокуратора Иудеи, известного нам по описанию Иосифа Флавия. Но с
точки зрения общей исторической обстановки этот образ более правомерен, чем
непоследовательный Пилат канонических евангелий. Подобных правителей римских
провинций, делавших себе карьеру на императорской службе, было много. Они в
высшей степени презирали все религиозные споры "черни" и вмешивались
в них только тогда, когда эти споры затрагивали интересы римского господства.
По существу, таким был и Плиний Младший, судивший христиан в Вифинии. Можно
думать, что, описывая Пилата, автор Евангелия Петра имел перед глазами римских
провинциальных наместников времен первых Антонинов[17]. Задачей евангелиста было не столько обеление Пилата,
сколько решение вопроса о степени вины иудеев в смерти Иисуса. И в этом вопросе
автор Евангелия Петра настойчиво противопоставляет народ, готовый к раскаянию и
к мести за Иисуса, лживым иудейским жрецам.
Евангелие Петра было, вероятно, создано в Сирии в первой половине II в.
Во всяком случае, именно в Сирии оно почиталось в более позднее время.
Обстановку в Палестине автор евангелия знает явно недостаточно хорошо. Но в то
же время его писание было близко иудео-христианам, в кругах которых не утихали
споры с иудейской верхушкой, продолжала жить со времен кумранских сектантов
вражда к первосвященникам. Существует сообщение епископа V в. Феодорита о
том, что Евангелием Петра пользовалась секта назореев. Не исключено, что оно
явилось греческой обработкой более древних арамейских писаний. Обвинение в
антииудаизме, которое выдвинули против этого евангелия богословы нового
времени, представляется несостоятельным. Но, по-видимому, за этим евангелием
стояла та группа иудеохристиан, у которых также начинала слабеть вера в скорое
второе пришествие и которые пытались найти объяснение бедствиям иудеев, обвиняя
в смерти Иисуса не весь народ, а только жречество. Они жаждали дополнительных
чудесных знамений для укрепления своей веры в божественное предназначение
Христа.
Евангелие Петра, как мы уже говорили, было достаточно широко известно в
христианских кругах. Однако при канонизации "священных" книг церковь
не могла признать его: образ не испытавшего страданий Иисуса, прямое
противопоставление народа священникам, явно фантастические детали не могли
удовлетворить руководителей победившей церкви.
Для историков же это евангелие интересно во многих отношениях. Оно
показывает, что в начальный период формирования христианской литературы
существовало несколько версий сказания о суде над Иисусом. Сопоставление версии
Евангелия Петра с новозаветной позволяет выявить явную тенденциозность
последней. Евангелие Петра дает также возможность проследить постепенные
изменения в умонастроениях ранних христиан: автор его как бы находится между
иудео-христианской и новозаветной традицией, с одной стороны, и гностическими
учениями, о которых речь пойдет дальше, — с другой. Четкой грани между разными
направлениями среди христиан еще не было: споры проходили часто в пределах
одной и той же общины. Разные проповедники, проклиная друг друга, в то же время
заимствовали друг у друга отдельные утверждения и яркие детали. Изменения в
образе Иисуса приводили к тому, что в нем оставалось все меньше человеческого и
накапливалось все более мистического: он делался более всемогущим, но и более
далеким от простых людей, когда-то поверивших в мессию — распятого плотника.
АПОКАЛИПСИС ПЕТРА
Другое писание, связанное с именем Петра, — Апокалипсис. Это произведение
было хорошо известно христианским писателям II в. Оно включено в первый
известный нам список "священных" книг — "Канон Муратори"
(правда, там отмечается, что не все считают возможным читать Апокалипсис Петра
в церкви). Создан был Апокалипсис Петра, вероятно, в начале II в.; в нем
отражены те изменения, которые происходили в христианстве на рубеже двух первых
веков нашей эры.
Апокалипсис Петра, как и новозаветный Апокалипсис Иоанна, представляет собой
описание фантастических видений, "откровений", которые авторы этих
произведений и стремятся поведать своим читателям. В апокрифическом
апокалипсисе рассказывается, как Христос и его ученики идут в гору и им
открываются картины рая и ада. Рай — это место, где находятся первосвященники и
праведники. "... Огромное пространство вне этого мира, сияющее
сверхъярким светом; воздух там сверкал лучами солнца, сама земля цвела
неувядаемыми цветами, была полна ароматов и прекрасноцветущих вечных растений,
приносящих благословенные плоды..."[18]. В этом месте, "вне мира сего", живут
праведники, одетые в прекрасные, необыкновенной белизны одежды. "Тела их
были белее всякого снега и краснее всякой розы, и красное у них смешано с
белым. Я просто не могу описать их красоту. Волосы у них были волнистые и
блестящие, обрамлявшие их лица и плечи, как венок, сплетенный из нардового
цвета и пестрых цветов, или как радуга в воздухе..."
Это описание — одно из наиболее древних описаний христианского рая, того
царствия небесного, которое постепенно вытесняло из представлений верующих
царство божие на земле. Как некогда в сказаниях, переданных Папием, рисовалось
конкретное, материальное, осязаемое, изобильное земное царство, так и здесь
автор стремится дать конкретное, по существу тоже материальное, описание рая.
Праведники попадут на небеса, они будут жить вне этого мира. Здесь уже
чувствуется противопоставление земной жизни миру потустороннему, но мир этот
мыслится не как нечто абстрактное, бестелесное, лишенное форм. Он подобен
земному миру, только гораздо прекраснее.
Многие христиане, люди простые, далекие от философских учений об абсолюте, о
мистическом соединении души с божеством, не могли отказаться от своих
представлений о счастье и красоте, связанных с земным миром. И если царство божие
на земле отступает в неизвестное будущее, то нужно утешаться тем, что сказочные
"благословенные плоды" ждут их на небе. Праведники в раю изображаются
не бесплотными душами, а людьми с прекрасным телом и в прекрасных одеждах.
Телесность рая — характерный отзвук тех надежд и чаяний трудящихся масс,
которые еще в глубокой древности порождали сказки о таинственных странах и
островах, где царит полное изобилие.
Интересны эстетические особенности описания рая в Апокалипсисе Петра. Автор
стремится произвести впечатление за счет красочных сравнений и эпитетов: тела
праведников белее всякого снега и краснее розы, свет — сверхъяркий, волосы
подобны венку, сплетенному из пестрых цветов, или радуге. Рай наполнен
красками, ароматами, лучами солнца, а сами праведники так красивы, что их
красоту даже нельзя описать. Нищие, калеки, убогие, презирая богатство сильных
мира сего и красоту античных атлетов, все-таки надеялись с помощью своего
спасителя стать более прекрасными, чем эти атлеты, вдыхать ароматы, которые и не
снились владельцам роскошных вилл, и вкушать необыкновенные плоды. Они не могли
полностью освободиться от тех идеалов, против которых сами же выступали, и рай
потусторонний оставался для них все тем же раем земного благополучия.
Рай Апокалипсиса Петра создан воображением тех верующих, которые уже не
ждали конца света, а может быть, даже боялись его. Разгромы иудейских восстаний
воочию показали, сколько ужасов может принести война, в которой гибнут и правые
и виноватые; и кто знает, сколько еще будет войн и жертв, прежде чем произойдет
наконец последняя война между "сынами света" и "сынами
тьмы" и установится царство божие на земле. Однако спасение на небесах они
представляли в земных образах. Вероятно, именно этот чересчур земной, чересчур
материальный облик христианского рая и смущал тех христианских богословов,
которые в конце II в. не рекомендовали читать Апокалипсис Петра в
собраниях верующих, а затем вообще исключили его из списка
"священных" книг.
В Апокалипсисе Петра описан и ад. Это — место в потустороннем мире, где и
наказуемые грешники, и наказывающие ангелы (а не черти!) облачены в темные
одежды. Кого же считает автор апокрифического апокалипсиса грешниками?
Наказание несут хулившие путь справедливости; извращавшие справедливость;
убийцы, прелюбодеи, женщины, сделавшие себе выкидыш; те, кто хулил и поносил
"путь праведный"; лжесвидетели; богачи, не пожалевшие сирот и вдов;
ростовщики; люди, поклонявшиеся идолам, оставившие путь бога. Перечень грехов
отражает становление христианской этики, которая регламентирует теперь разные
стороны поведения в мире. Поскольку полное отречение от мира нереально, то
нужно было создать систему этических норм, которыми руководствовались бы все
приверженцы новой религии. Уже в посланиях Павла ставились поведенческие вопросы,
например о возможности вступать в брак, о возможности судиться у язычников и
т. п. В дальнейшем этические проблемы становятся в христианстве все более
важными, а руководители христианских общин, епископы и пресвитеры уделяют им
все более пристальное внимание.
Христианская этика, как и догматика, складывалась в борьбе различных мнений
и требований: были группы, выступавшие за крайний аскетизм; были проповедники,
которые вообще отказывались рассматривать нормы поведения, но большинство
христиан нуждались в таких нормах, которые позволяли бы им существовать в
окружающем обществе. Большую роль в выработке христианской этики играли начиная
со II в. епископы, которые осуждали тех или иных членов своей общины не
только за расхождения в вероучении, но и за те поступки, которые считались
недостойными. И вознаграждение за праведную жизнь, и наказание за грехи ожидало
людей, по представлениям христиан того времени, в потустороннем мире: небесный
рай заменил царство божие, а преисподняя — наказание во время страшного суда. А
раз наказание ждало человека, прожившего обычную жизнь, то и грехи
рассматривались часто как вполне обыденные свершения. Именно такое
представление о грехах и отражено в описании ада автором Апокалипсиса Петра.
Интересно сравнить в этом отношении апокалипсисы Иоанна и Петра. Откровение
Иоанна, созданное в конце I в.[19]
среди христиан, еще не порвавших с иудаизмом, исполненных ненависти к
"великой блуднице" — Риму, рисует ужасающие картины гибели людей во
время страшного суда. Кто же получает возмездие? Это сам Рим и те, кто служил
ему, — все язычники, те люди, которые не раскаялись в поклонении идолам,
"в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в
воровстве своем" (9:20-21). В Откровении Иоанна угроза направлена
прежде всего против тех, кто не признает христианского бога и не подчиняется
ему; из нерелигиозных преступлений упомянуты убийство, "блудодеяние",
воровство (т. е. те преступления, которые, с точки зрения христиан,
совершали язычники). Автор Апокалипсиса Иоанна не старался детализировать
грехи, за которые будут наказаны отдельные люди: погибель ждет многих, и только
тот, кто отмечен божественной печатью, спасется. А как красочно рисуется конец
Рима, этой "великой блудницы": "... в один день придут на
нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем... горе, горе тебе,
великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и
камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое
богатство" (18:8,16-17).
Согласно же Апокалипсису Петра в аду терпят наказание не народы, а отдельные
люди, в перечне грехов появляются такие, какие не выделял его предшественник
именно потому, что они относились к поведению людей в продолжающем существовать
римском рабовладельческом обществе. Нужно ли было Иоанну выделять
ростовщичество в качестве особого греха, когда любое приобретение богатства, с
точки зрения первых христиан, было злом, за которое грозила смерть во время
страшного суда? Но время шло, среди христиан появлялись люди, которые владели
участками земли, деньгами, рабами, которые вступали в сделки с язычниками. Они
хотели согласовать христианскую мораль со своим образом жизни. Бедняки больше
всего страдали от ростовщичества; их жены не знали, чем прокормить своих детей;
стремление избавиться от беременности столь часто встречалось среди населения
римской державы, что это беспокоило многих деятелей того времени — и
мыслителей, и политиков (мы уже упоминали об одном религиозном союзе I в.
до н. э., где запрещалось прерывать беременность или содействовать в
этом). Императоры из династии Антонинов создали специальный алиментарный фонд
для помощи беднякам в воспитании детей. Но это помогло мало. Надписи на
надгробиях, которые ставили жители провинций своим умершим родственникам (в них
обычно перечислялись все члены семьи умершего), свидетельствуют о преобладании
малодетных семей. Естественно, что христианские моральные учения должны были
реагировать на все эти настроения и факты повседневной жизни.
Христианская этика, как она отражена в перечне грехов Апокалипсиса Петра, во
многом вобрала в себя общие правовые нормы и моральный климат своего времени:
убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство считались преступлением во всех
древних законодательных системах; наказание в аду женщин, убивших своих
неродившихся детей, — попытка борьбы с распространенным в ту эпоху явлением.
Отзвуком выступлений против богатства и богатых было причисление к грехам
ростовщичества и отказа от благотворительности. Но как отличается все это от
категорического требования иудеохристиан раздать все богатство, отречься от
мира! Богатство, согласно Апокалипсису Петра, само по себе уже не зло; грех
только в нежелании помогать бедным. Из всех способов приобретения богатства
осуждается лишь ростовщичество, несправедливость которого была наиболее очевидной
и которое в первые века империи получает широкое распространение. Чисто
христианским грехом становится отступничество, которое, по-видимому,
распространялось под нажимом властей. Мы знаем из письма императора Траяна, что
римляне преследовали христиан прежде всего за открытое неповиновение, за
нежелание поклоняться императору как богу; достаточно было признать
божественность императора, и они освобождались от наказания. Чем менее
фанатичной становилась вера последователей нового учения, чем меньше надежд
оставалось у них на скорое наступление конца света и страшного суда, тем больше
было случаев отступничества, особенно, вероятно, среди зажиточных людей,
которые стремились сохранить свое имущество. Некоторые отходили от христианства
навсегда, некоторые временно, надеясь еще успеть замолить свои грехи. Именно в
борьбе с отступничеством христианские богословы причислили к тяжким грехам
"оставление пути бога".
Отступники в Апокалипсисе Петра отличаются от тех, кто хулил путь
справедливости, "извращал справедливость". К последним относятся,
скорее всего, христиане, не признававшие того учения, которому следовал автор
апокалипсиса. Хулители пути справедливости не были, по всей вероятности,
язычниками — противниками христиан, ибо язычники и так будут наказаны как
идолопоклонники. Для автора этого сочинения, как и для других христианских
деятелей II в., борьба с различными направлениями в христианстве играла
большую роль. В начале Апокалипсиса Петра говорится о том, что многие будут
лжепророками и "будут пути и коварные учения гибели, но они будут
сыновьями гибели". Эти "сыновья гибели" и отправляются в ад.
Бесконечные разногласия, нарушавшие связи между христианскими общинами,
ослаблявшие власть их руководителей, замедлявшие распространение нового учения
в "языческом мире", казались автору апокалипсиса не менее опасными,
чем отступничество.
Итак, Апокалипсис Петра знаменует собой своеобразную переходную эпоху в
становлении христианской догматики и этики: внеземной рай в земных образах; ад,
где мучаются ростовщики, богачи, не желающие помогать беднякам, и люди,
извращающие истинное учение. Многих грехов, которые будут потом преследоваться
господствующей церковью, здесь еще нет; нет еще требования полного подчинения
государственной власти, покорности, но уже осуждается не богатство, а только
отказ в помощи вдовам и сиротам.
Неудивительно, что Апокалипсис Петра пользовался популярностью среди
христиан: он отражал настроения достаточно широких слоев их, сохраняя отзвуки
идей первохристиан, отвечал в то же время потребностям своего времени.
Неудивительно также, что церковь исключила этот апокалипсис из числа
"священных" книг. Это было сделано не только из-за слишком
"материального" изображения в нем рая, но, вероятно, и по причине
недостаточно полного перечня грехов, подлежащих наказанию в аду.
"ПАСТЫРЬ" ГЕРМЫ
К жанру откровений относится еще одно произведение II в. —
"Пастырь" Гермы, которое долгое время многими христианами почиталось
священным и боговдохновенным. В "Каноне Муратори" его священность
отвергается на том основании, что оно поздно написано: Герма не был учеником
Иисуса, он брат руководителя римской общины Пия[20]. Тем не менее такие христианские писатели, как
Ириней, Ориген, Климент Александрийский, ссылались на его авторитет. В
IV в. против канонизации "Пастыря" выступил Евсевий Кесарийский,
называвший это сочинение в числе подложных. Однако в древнейшем дошедшем до нас
списке Нового завета, так называемом Синайском кодексе, содержится и
"Пастырь" Гермы, хотя в окончательный текст христианского канона он,
как известно, не вошел.
"Пастырь" отражает несомненно демократическую струю в христианстве
II в.; это подтверждается не только отношением его автора к богатству, но
и общим стилем изложения, стремлением объяснить и донести до аудитории смысл
притчей и аллегорий, которых в книге очень много. "Пастырь" написан
от лица самого Гермы; он как бы олицетворяет рядового "неразумного"
христианина, который задает массу вопросов, а явившиеся ему в видениях ангелы
подробно растолковывают символику этих видений.
Герма рассказывает о себе: он вольноотпущенник, занимался торговлей, но
разорился. Трудно решить с определенностью, насколько точны биографические
данные, приведенные в "Пастыре". Возможно, подлинный автор, как это
было свойственно религиозной литературе того Бремени, скрывался здесь за
вымышленным или легендарным именем; некоторые христианские писатели
отождествляли его с Гермой, одним из соратников Павла, упоминаемым в посланиях.
Но для нас важен не столько реальный автор, сколько его образ, созданный в этом
произведении: выходец из низов, пытавшийся выбиться в люди, нажиться на
торговых операциях, обедневший, — типичная фигура для средних слоев той эпохи,
представителей которых все больше становилось в христианских общинах II в.
И обращался он к таким же людям — не слишком образованным, далеким от
изощренных богословских споров, потерпевшим жизненные неудачи, ищущим утешение
и надежду в новом, неофициальном религиозном учении.
"Пастырь" получил свое название по описываемым автором видениям, в
которых действует человек в одежде пастыря. Книга эта состоит из трех частей:
Видения, Притчи и Наставления. Главные проблемы, которые рассматриваются в
"Пастыре", — этические, что, как мы уже говорили, соответствовало
потребностям основной массы верующих. Важное место занимает в нем также
проповедь необходимости единства формирующейся церкви. Затронуты Гермой и
некоторые вероучительные вопросы.
Церковь является в видениях Гермы сначала в образе старицы, которая
"сотворена... прежде всего и для нее сотворен мир". Затем старица молодеет.
Эта аллегория трактуется как вечное существование церкви, которое, однако,
достигается активной деятельностью верующих: радуясь их рвению, церковь
становится молодой. Одна из основных мыслей автора раскрыта в видении, где
церковь предстает в виде строящейся башни; камни, из которых ее возводят
ангелы, — это верующие. Самые лучшие камни достают из глубины вод; эти камни
символизируют мучеников и праведников. Некоторые камни, принесенные для
строительства, откладываются: они олицетворяют грешников, еще имеющих
возможность раскаяться. Камни, символизирующие тяжких грешников, прежде всего
вероотступников, отбрасываются навсегда.
Интересен эпизод с круглыми камнями. Герма описывает прекрасные белые камни,
которые всем пригодны для постройки, кроме формы: они круглы, а башня строится
из квадратных камней. Автор спрашивает, кто такие эти камни, и получает ответ:
"Это те, которые имеют веру, но имеют и богатства века сего, и когда
придет гонение, то ради богатств своих и попечении отрекаются от Господа".
Богатые станут угодны богу, когда уменьшат свои богатства путем
благотворительности. "Вы, которые превосходите других богатством,
отыскивайте алчущих, пока еще не окончена башня. Ибо после, когда башня будет
закончена, вы пожелаете благотворить, но не будете иметь место". Итак,
если богатые христиане частично расстанутся со своими богатствами, передав их
нуждающимся, то они станут "камнями квадратными", т. е.
пригодными для построения церкви.
Мысль о необходимости благотворительности проходит через все сочинение
Гермы, он несколько раз возвращается к ней. В конце своего произведения он
описывает тяжелое положение бедняков: "...многие не вынеся бедственного
положения, причиняют себе смерть. Посему кто знает о бедствии такого человека и
не избавляет его, допускает великий грех и делается виновен в крови его. Итак,
благотворите, сколько кто получил от Господа. Не медлите, чтобы не окончилось
строение башни..."
Для себя Герма не делает исключения: он считает, что, пока был богат, он был
бесполезен богу, разорившись же, стал полезным. В этих отрывках можно увидеть
типичное для многих христиан отношение к богатству: с одной стороны, богатство
мешает верующим, главным образом потому, что привязанность к мирским благам
может привести их к отступничеству, но, с другой стороны, богатые — такой же
необходимый компонент общества, как и бедные. Исполненный сочувствия к тем, кто
лишает себя жизни от нужды. Герма единственное средство видит в добровольной
помощи со стороны богатых. Он даже пытается обосновать взаимную зависимость
богатых и бедных: первые, отдавая часть своего богатства, становятся угодными
богу благодаря тому, что бедные молятся за них, живя за счет подаяния. Правда,
у Гермы более ярко, чем в ряде других христианских сочинений, выражено
сочувствие беднякам. Для него благотворительность не просто средство стать
совершенным, как, скажем, в Евангелии от Матфея, а реальный способ улучшения
жизни бедняков. "Берущие по нужде не будут осуждены", — пишет он.
Даже грех лишения себя жизни, если это сделано по причине бедности, он
перекладывает на тех богачей, которые вовремя не помогли нуждающемуся.
Анализируя позицию автора "Пастыря", можно ясно увидеть, что
никаких социальных преобразований христианство, даже в своей наиболее
демократической форме, предложить не могло. И если в среде изолированных
сектантских групп, таких, как эбиониты Кумрана или эбиониты — почитатели
Иисуса, рождались фантастические образы всеобщего равенства в царстве божием,
то для проповедников типа Гермы никакие иные отношения, чем те, которые он
видел вокруг себя, немыслимы. Он наивно оправдывает существование богатых
божественной волей: бог велел ограничить богатство, но не отнимать его совсем,
чтобы богатые имели возможность помогать бедным. Правда, Герма продолжает
надеяться на второе пришествие, которое положит конец миру сему. Он считает,
что это произойдет, когда будет достроена церковь (попытка дать понятное
большинству объяснение того, почему страшный суд все еще не наступает: нужно
сначала создать единую мощную церковь, объединяющую всех верующих). Пока идет
строительство башни-церкви, у грешников есть еще возможность раскаяться, но,
как только она будет выстроена, будет поздно.
В своем произведении Герма уделяет много внимания тому, какими должны быть
истинно верующие. Они должны обладать такими добродетелями, как вера,
воздержание, сила духа, терпение, простодушие, бодрость, правдивость,
единодушие, любовь и т. п. Эти добродетели были понятны рядовым верующим,
и, может быть, именно ради них были введены такие добродетели, как простодушие
и бодрость — качества, которые помогали жить в неустойчивом, погрязшем в
интригах обществе императорского Рима. Одно из главных зол, согласно
"Пастырю" — стремление к мирским наслаждениям, к роскоши, ибо
"всякое наслаждение... бессмысленно для рабов божиих". Герма не
фанатик. Ом считает, что даже совершившие значительный грех могут спастись,
если раскаются и сохранят верность христианскому учению. Не будет прощения
только вероотступникам и предателям.
Для Гермы очень важна проповедь церковного единства; без этого церковь не
может быть достроена. Он призывает к прекращению споров. Герме, как и многим
христианам, его современникам, теологические споры были непонятны. С их точки
зрения, эти споры ослабляли христианское движение, мешали созданию единой
церкви. Но церковь, в понимании Гермы, не иерархическая организация с
беспрекословным подчинением паствы своим духовным руководителям; это, скорее,
всеобщее собрание верующих. Монархическому епископату нет места в его картине
объединения всех христиан. Герма не только выступает против богатых вообще,
особое осуждение он высказывает в адрес тех должностных лиц христианских общин,
которые наживаются за счет средств верующих. Так, он упоминает о диаконах,
"которые худо исполняли служение, расхищая блага вдов и сирот и сами
наживаясь от своего служения".
В трактовке образа Христа "Пастырь" Гермы очень близок к
иудеохристианству. Интерес в этом отношении представляет притча о виноградарях,
переданная здесь совсем иначе, чем в новозаветных евангелиях[21]. Согласно этой притче, которая затем подробно
растолковывается, хозяин виноградника передал его рабу на время своего
отсутствия и приказал сделать к нему ограду. Раб же кроме того сделал еще ряд
работ и получил благодаря этому прекрасный урожай. Вернувшийся хозяин выражает
желание сделать его своим наследником и угощает пиршественными яствами. Эти
яства раб раздает своим сотоварищам, чем вызывает еще большее восхищение
господина. Притча толкуется следующим образом: господин — это бог,
виноградник — народ, им сотворенный, а раб — сын божий, сделанный богом своим
наследником ради спасения "виноградника".
Итак, здесь, как и в Дидахе (Учение двенадцати апостолов), Иисус — раб божий
и одновременно его сын. В "Пастыре" рассказывается, что Герма задает
вопрос явившемуся ему человеку, почему сын божий выступает именно в виде раба,
и получает ответ, что, несмотря на рабский образ, он велик и могуществен. В
притче о винограднике, как она передана Гермой, образ раба использован не
случайно: это отзвуки первохристианских представлений о том, что Иисус
"уничижил себя самого, приняв образ раба" (Флп.2:7), что нищие войдут
в царство божие. Но если для христиан предшествующего поколения вопрос о том,
почему Иисус принял образ раба, не стоял (ибо они сами были рабами и изгоями),
то Герма, сохраняя демократические тенденции первых христиан, уже задает этот
вопрос и отвечает на него: Иисус принял образ раба, но он при этом велик и
могуществен. Создается впечатление, что этот ответ адресуется массе христиан,
являвшихся свободными, которые в обыденной жизни привыкли смотреть на рабов как
на существа приниженные, и если признавали их людьми, то скорее в теории, чем
на практике.
Герма затрагивает и вопрос о сущности Иисуса. Он объясняет, что бог поместил
"святого духа преждесущего" в тело, им самим избранное. Бог сделал
Иисуса своим посредником для того, чтобы передать свой закон людям. Тело Иисуса
воскресло, ибо он много потрудился и много пострадал. Таким образом, здесь (как
и в Евангелии Петра) разделяются тело Христа и дух. Святой дух пребывает,
согласно Герме, не только в Иисусе, но во всех верующих — тех, кто смог
раскаяться. Итак, Герма пытается дать представление об Иисусе, которое было бы
понятно разным группам верующих, сохранить традицию воскресения его во плоти и
в то же время сделать его равным божеству: он был носителем святого духа, но за
свои заслуги воскрес телесно. Здесь происходит усложнение и раздвоение образа
Иисуса, ибо простой галилейский пророк, иудейский мессия не отвечал
религиозному чувству верующих, жаждавших чудес, исходящих от спасителя всего
мира, а не только иудейского народа, от силы, всегда управлявшей миром и
поэтому всемогущей и вездесущей.
"Пастырь" Гермы, как мы видим из этого краткого анализа,
произведение, в известной мере оппозиционное формирующейся церкви и тем слоям
христиан, которые выступали за примирение с государством и подчинение его
законам. Герма не выступал против Рима, но и не требовал полного повиновения
властям. Жанр откровения связывал это сочинение с пророчествами I в.,
авторитет которых был достаточно велик и придавал "Пастырю" ореол
древности. Вероятно, поэтому "Пастырь" Гермы и оказался включенным в
Синайский кодекс.
В этой главе мы рассмотрели три неканонических произведения, созданных, по
всей видимости, в начале, а возможно, и в середине ("Пастырь" Гермы)
II в. Данные произведения почитались настолько широко, что были попытки
включить их в новозаветный канон. Их анализ о многом говорит историку. Прежде
всего о том, что и во II в. продолжала развиваться христианская традиция,
что не было строго установленных правил и догм, принятых каким-то одним ведущим
направлением в христианстве. В зависимости от этнической и социальной среды, от
круга источников, которыми располагали составители христианской литературы, от
степени влияния нехристианского мировоззрения и, наконец, от духовных
потребностей самих верующих создавались различные произведения с различной
трактовкой вероучительных и этических вопросов.
Невозможность определить точно, какие идеологические течения представляли
писания Петра (а в какой-то степени и "Пастырь" Гермы), связана с
тем, что в период их создания еще не произошло четкого размежевания отдельных
направлений в христианстве. Борьба часто шла внутри одних и тех же общин.
Поэтому и вопрос о канонизации этих произведений решался по-разному на
протяжении длительного времени. Эти апокрифы — свидетельство продолжения
внутренней борьбы среди христиан, постоянных конфликтов между разными
проповедниками, настолько острых, что вопрос о преодолении разброда, об
объединении начинает осознаваться некоторыми группами христиан как вопрос о
самом существовании нового учения.
БОРЬБА ТЕЧЕНИЙ В ХРИСТИАНСТВЕ II В.
УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ
Кризис античного миропорядка и античного мировоззрения, представлявшего мир
(космос) основанным на разуме и гармонии, а человека — частицей этого разумного
мира, привел к тому, что снова возродилось мифологическое мышление. Правда,
мифотворчество в древнем мире никогда не прекращалось. Невзирая на все попытки
греческих философов и ученых дать мифам рационалистическое толкование[22], в наиболее кризисные эпохи, когда
рушились привычные жизненные устои, когда войны перекраивали сложившиеся веками
государства когда люди особенно остро ощущали свою беспомощность перед
непонятными им общественными, силами, распространялось мифотворчество и
мифологическое восприятие мира. При таком восприятии логическое объяснение
явлений заменяется образами и символами и реализуется "возможность
превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения)
абстрактного понятия, идеи в фантазию (in letzter Instanz[23] бога)"[24].
Взаимопроникновение мифологии и философии, столь характерное для
II—III вв., дало возможность перевести чувственно-образную основу мифов в
теоретические системы с усложненной символикой, в которых абстрактные понятия
выступают как сами по себе действующие сущности. Многие из таких систем не были
рассчитаны на логическое их понимание; они должны были восприниматься как
цельный образ, как картина, за которой скрывается непостижимая таинственная
сущность мира.
Еще в I в. н. э. философ Филон из Александрии Египетской создал
философское учение, в котором пытался сочетать иудейскую религию с
идеалистической греческой философией. Бог, по учению Филона, существо, не
обладающее никакими качествами, не имеющее протяженности, охватывающее все в
мире. Познать и выразить его невозможно. Посредником между этим абсолютным
божеством и реальным миром служит логос — слово, разум. Мир (космос) всего лишь
отображение логоса. Логос — порождение бога, первый ангел. Ниже него находятся
"силы божий", воздействующие на мир и человека: благость, милосердие,
справедливость, могущество, мудрость. По Филону, человек через логос может
достичь общения с божеством в блаженном экстазе.
Философия Филона оказала большое влияние на христианство. Многим христианам
было ближе представление о логосе, таинственной силе, исходящей от еще более
таинственного, непознаваемого бога, чем образ бедного пророка из Галилеи,
связанного с иудейскими сектантами и проповедовавшего среди рыбаков, нищих и
прокаженных.
Разочарование в окружающей действительности, в учениях о разумном устройстве
мира приводило к тому, что в религии и философии все явственней проступала идея
о двойственной природе мира, о непрерывной борьбе добра и зла. Эту идею мы
встречали еще у кумранских сектантов, но теперь она становится ведущей в
социальной психологии самых разнообразных слоев населения. Зло представляется
такой же силой, как и добро, злые божества и демоны ведут постоянную борьбу с
добрыми божествами; этим и объясняется наличие зла и несправедливости в мире
(ведь даже "благочестивые" и "мудрые" императоры, такие,
как Марк Аврелий, не смогли исправить это зло!).
Конечно, идея дуализма не возникла на пустом месте. Она уходит своими
корнями в древние иранские культы. Согласно им, доброе божество Ахура-Мазда
ведет постоянную борьбу с духом зла Ангра-Манью. Оба они одинаково участвовали
в создании мира: добрый дух создал все полезное и прекрасное, злой — все
вредное и нечистое (болезни, смерть, хищных зверей и т. п.). У каждого из
этих божеств есть помощники, которые ведут борьбу вместе с ними. В конечном итоге
победу должен одержать Ахура-Мазда.
Одним из помощников Ахура-Мазды в иранских верованиях выступало солнечное
божество Митра, который одновременно считался олицетворением справедливости
(его имя означает "договор"). На рубеже нашей ары культ Митры обособляется
и затем начинает распространяться в Римской империи, а во II—III вв.
становится одним из ведущих религиозных течений, по существу особой религией
(митраизм). В митраизме солнечное божество представлялось воителем, побеждающим
быка, символизировавшего злое начало; его чтили как спасителя и создателя мира.
Почитатели Митры верили, что после его окончательной победы установится царство
справедливости, где все его приверженцы будут вознаграждены. Его называли
"непобедимым солнцем", справедливым божеством. Существовали особые
празднества-мистерии, посвященные этому божеству. Главным праздником Митры был
день солнцеворота — 25 декабря (рождение солнца).
Поскольку Митра изображался в виде воина, побеждающего чудовище-быка, он
считался покровителем воинов, а также моряков. Римские солдаты разнесли культ
Митры по всем провинциям империи; не только на востоке, но и на западе можно
было встретить святилища в его честь. Даже в далекой от Рима Британии, на
территории современного Лондона, учеными было открыто святилище этого бога.
В митраизме много черт, сходных с христианством, и прежде всего вера в
спасителя, побеждающего зло, рожденная общими духовными потребностями народных
масс того времени. Однако культ Митры, при всей его популярности, не мог
соперничать с христианством: в мистериях принимали участие только мужчины;
чтобы вступить в общину митраистов, нужно было пройти суровые физические
испытания; вступление это сопровождалось сложными обрядами. Тем не менее
влияние на христианство митраизма, как и иранских культов вообще, было велико.
Вероятно, немало митраистов вошли со временем в христианские организации и
привнесли в них свои представления и некоторые обряды. Недаром день рождения
солнца стал днем рождения Иисуса Христа. Идеи мирового дуализма также неминуемо
проникали в христианские учения, сливаясь с отголосками представлений о войне
"сынов света" с "сынами тьмы", созданных еще кумранитами...
Сходные идеи были распространены и в других религиозных учениях, которые
проповедовали при этом мистическое слияние с божеством как единственное
средство спасения от зла. Одним из таких учений был герметизм, связанный с
поклонением Гермесу Триждывеличайшему (Трисмегист), объединившему образы
греческого бога Гермеса и египетского бога Тота. В трактатах герметистов дается
описание сотворения мира, определяется место человека в этом мире и указываются
пути воссоединения с божеством. По этим верованиям, земля и весь телесный мир —
зло, "темное начало". Они созданы не богом, который представляет собой
абсолютное благо, свет и жизнь, а промежуточными силами. Из высшего божества
проистекают логос (разум), демиург (творец) и человек (который тоже состоит из
света и жизни). Душа отдельного человека опускается через космические сферы от
света к тьме и теряет свое совершенство. Чтобы спастись, нужно пробудить в душе
отблески света и воссоединиться с божеством.
Одним из способов воссоединения с божеством, согласно учению почитателей
Гермеса, было употребление магических заклинаний, основанных на
"знании" истинной сущности и истинного имени бога. Вот как звучало
одно из таких заклинаний: "Войди в меня, Гермес, как зародыш в лоно
женщины... Я знаю твое имя, воссиявшее на небе, и все образы твои... Я знаю
твои варварские имена и твое истинное имя, начертанное на священной стене в
храме в Гермополе, откуда ты родом. Я знаю тебя, Гермес, а ты меня. Я — ты, а
ты — я". Для учения герметистов характерен дуализм, но не изначальный, как
в иранских культах, а возникший в процессе творения мира. Все телесное, в том
числе и телесная сторона человеческого бытия, представлялось им тьмой,
стремящейся поглотить и уничтожить свет.
Характерно появление в этот период культа абстрактного человека (конкретные
люди отличаются от этого своего прообраза тем, что они "испорчены"
своей "телесностью" и общением с телесным миром). Культ этот в
крайней форме отражал тот распад традиционных коллективных связей в Римской
империи, о котором мы уже не раз говорили. Ощущение своей изолированности,
потребность преодолеть ее и пробудили фантастическое представление об
абстрактном прачеловеке, предшествующем миротворению, как выражении
общечеловеческой общности.
Все эти учения, существовавшие до и наряду с христианством, не могли не
проникать и в христианские общины. Совокупность идей о непознаваемом боге и мире,
созданном не благим богом, а низшими силами, о логосе как посреднике между
божеством и миром, о человеке, который должен пробудить в себе истинное знание
о боге и благодаря этому "знанию" (по-гречески "гносис")
соединиться с божеством, христианские писатели, защищавшие ортодоксальное
направление, называли гностическими идеями[25]. Важным аспектом гностического восприятия человека
было также представление о том, что он состоит из тела, души и духа; первые два
компонента исходят от низших сил, которые наделили человека своими свойствами.
Дух (пневма) исходит от божества; это его отблеск. Только тот, кто открывает в
себе этот отблеск, становится избранным, неподвластным действию космических
сил, управляющих телесным миром.
Гностицизм не был единым религиозно-философским течением, не был он и
самоназванием какого-то определенного учения. Гностические идеи проявлялись в
разных сектах (например, в палестинских и сирийских сектах последователей
Иоанна Крестителя, в упомянутых выше группах почитателей Гермеса Трисмегиста);
эти секты, группы и философско-религиозные школы не были связаны между собой и
часто враждовали друг с другом. Проникнув в христианство или, наоборот,
восприняв отдельные элементы христианского учения, гностические учения (может
быть, вернее было бы сказать гностический способ мировосприятия) становятся
важным фактором христианского движения. В дошедших до нас произведениях
христианских писателей II в. (особенно второй его половины) и начала
III в. много места уделяется борьбе с гностицизмом, с идеей гносиса.
Гностический подход к миру и его "спасителю" (воспринятый,
вероятно, через дуализм эбионитов, через учение о логосе Филона и еще какие-то
источники, о которых до сих пор идут споры в науке) проявился уже в некоторых
произведениях Нового завета. Характерно в этом отношении начало Евангелия от
Иоанна: "В начале было слово (в греческом подлиннике — логос. — И. С.),
и слово было у бога, и слово было бог" (1:1). Этот логос, по Иоанну,
и был Христос: "Слово стало плотию, и обитало с нами..." (1:14),
т. е. извечно существующий логос воплотился в Иисусе. В четвертом
евангелии нет рассказа о рождении Иисуса от Марии. Образ Иисуса в нем существенно
отличается от пророка иудео-христиан, черты которого сохранились в первых трех
канонических евангелиях. Основное требование к последователям нового учения,
вложенное в уста Иисуса, — обрести в себе дух. Только те, кто действительно
имеют в себе частицу божественного духа, могут достичь царства божия.
"Если кто не родится от воды (т. е. крещения. — И. С.) и
духа, не может войти в царствие божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от духа есть дух" (3:5-6). В этом положении чувствуется влияние
гностической идеи о том, что ничто телесное не может спастись. В Иисусе из
Евангелия от Иоанна меньше человеческих черт, чем в герое остальных евангелий
Нового завета. Когда ученики предлагают ему еду, он отвечает им: "У меня
есть пища, которой вы не знаете... Моя пища есть творить волю пославшего меня и
совершить дело его" (4:31-34). Подобные примеры можно умножить.
Некоторые ученые полагают, что среди источников четвертого евангелия наряду с
традицией, использованной и в других евангелиях, было собрание речений чисто
гностического толка. Другие считают, что автор этого евангелия сам внес в свое
сочинение абстрактно-гностическую струю под влиянием различных религиозных
учений.
Элементы гностического подхода можно обнаружить и в посланиях Павла. Для
автора этих посланий главное в Иисусе — победа над мировыми силами зла;
человеческая природа и человеческая биография Иисуса его, по существу, не
интересуют. В первом послании к коринфянам упоминается деление всех людей на
телесных, душевных[26] и духовных
("пневматиков", т. е. тех, кто обрел в себе частицу
божественного духа, пневмы). К последним причисляются не все верующие, а
апостолы и пророки, т. е. те, кто активно проповедует новое учение, и прежде
всего, конечно, сам автор посланий. Отчетливее всего гностические черты
выражены в послании к ефесянам, по-видимому наиболее позднем послании из тех,
авторство которых приписывается Павлу. Однако и в Евангелии от Иоанна, и в
посланиях существуют важные отличия от тех учений, которые христианские
писатели II в. называли гностическими.
Основным отличием новозаветного христианства от гностических учений было
неприятие им самого понятия гносиса (мистического слияния с божеством), которым
гностики заменяли веру в бога. Иным у христиан было и восприятие мира. Ни в
Евангелии от Иоанна, ни в посланиях Павла не отрицается возможность спасения в
царстве божием, даже если его наступление откладывается на неопределенное
время. В Евангелии от Иоанна сатана — олицетворение зла — неоднократно назван
"князем (в греческом подлиннике — правитель. — И. С.) мира
сего" (12:31; 14:30; 16:11), причем подчеркивается, что "князь мира
сего осужден". У Павла говорится о "боге века сего", который
ослепил умы неверующих (2 Кор.4:4), и о "духе мира сего" (1 Кор.2:12).
Если представление о "боге века сего", вероятно, связано с
представлением о том, что миром правят злые силы, то ограничение его власти
этим веком, этим миром, который будет осужден, уже чисто христианское
положение, вошедшее затем и в ортодоксальное учение: возможно наступление иного
века и иного мира. Очень трудно было, по-видимому, отказаться от веры в эту
возможность, которой жили первые христиане и которая пронизывает древнейшую
христианскую традицию. Существенным отличием было также положение о том, что
спастись могут все верующие в Христа (верующие, а не овладевшие мистическим
знанием об истинном боге); плотские (телесные) люди тоже могут приобщиться к
богу и стать духовными (автор Первого послания к коринфянам укоряет христиан:
"Вы еще плотские...").
Идейный строй Евангелия от Иоанна и отчасти посланий Павла, а также
знакомого уже нам Евангелия Петра отражает переход от эсхатологических чаяний
иудео-христиан, ожидавших близкого конца света, к мистическим откровениям
христиан-гностиков. Не исключено также, что ряд формулировок, напоминающих
гностические сочинения, внесены в эти произведения переписчиками и редакторами в
разгар борьбы ортодоксального направления с последователями гностических сект.
Во время этой борьбы происходило не только размежевание, но и заимствование.
Время Антонинов усилило в христианстве, как и в oдругих
религиозно-философских течениях, настроения пессимизма и индивидуализма.
Распространению этих настроений способствовало само относительное
"спокойствие" империи при первых Антонинах, что создавало впечатление
неизменности "мира сего". Неожиданный же для современников кризис конца
II в. породил у большинства населения империи ощущение хаоса и
дисгармонии. У христиан проявление этих типических черт общественной психологии
того времени было усугублено еще и таким .важным для них событием, как
поражение восстания Бар-Кохбы. С этим восстанием, как и с первой иудейской
войной конца I в., многие христиане связывали надежду на наступление
"конца света". Мы уже упоминали о том, что некоторые палестинские
христиане сначала присоединились к этому восстанию. Поражение его не только
поставило христиан перед реальной необходимостью приспособиться к окружающему
миру или найти способы хотя бы духовно изолироваться от него, но и оказало
влияние на религиозно-догматическую сторону их учения. Именно во II в. в
христианстве выкристаллизовываются течения, которые не только воспринимают
отдельные идеи о космосе как творении злых сил или о логосе как посреднике
между божеством и людьми, но создают замкнутые системы восприятия мира и
человека, где все эти идеи становятся взаимосвязанными, где создаются свои
представления о возникновении мира и своя этика.
ХРИСТИАНЕ-ГНОСТИКИ
Христианские богословы называют несколько проповедников, которые первыми
внесли гностические идеи в христианство. Степень достоверности их сведений не
поддается проверке, тем более что богословы спорили не всегда с самими этими
проповедниками, а зачастую с их последователями. В пылу спора многие положения
оппонентов искажались, а личности самих проповедников рисовались черными
красками. К таким первым проповедникам принадлежит, в частности, Симон Маг. По
всей вероятности, он не был христианином, а принадлежал к какой-то неизвестной
нам сирийско-самаритянской религиозной секте. Про него рассказывали, что он
всюду возил с собой проститутку по имени Елена, которую он называл живым
воплощением божественной "мысли". Подлинность личности Симона
установить сейчас трудно. В Деяниях апостолов упоминается Симон, волховавший в
Самарии, выдавая себя за "кого-то великого". Отождествление
основателя секты симониан с этим Симоном сомнительно, но в церковной литературе
оба образа слились, Исторический Симон, вероятно, так же далек от Симона
богословских писаний, как пророк Иисус от гностического Христа-логоса.
Суть учения симониан сводилась к тому, что в основе мира лежит единая Сила,
которая проявляет себя как Разум. Разум создает стоящую ниже себя Мысль. Мысль
обладает творческой способностью, она порождает ангелов и силы, создавшие мир.
В процессе создания мира Мысль потеряла контроль над своими творениями, она
находится в плену у них в "нижнем" мире, мире зла. Необходимо
освободить Мысль из этого плена. В учении симониан абстрактные рассуждения,
таким образом, переплетались с магией и мистическими представлениями о
воплощении божества.
Гностические идеи ясно проявились и в учении некоторых проповедников,
которые стремились не отмежеваться от основных направлений в христианстве, а
преобразовать их, не противопоставить уже существующим "священным"
книгам новые, а в полном смысле слова переписать эти книги.
Особое место среди христианских проповедников II в. занимает Маркион.
Он появился в Риме лет через пять после восстания Бар-Кохбы. Маркион был
богатым судовладельцем, приехавшим из провинции Понт (южное побережье
Евксинского понта, как греки называли Черное море). Свою проповедническую
деятельность он начал в Малой Азии. В течение многих лет он разъезжал по ее
городам, стремясь сплотить христиан вокруг своего учения. В конце 30 — начале
40-х годов II в. он приехал в Рим, чтобы привлечь на свою сторону
руководителей римской христианской общины. Целью Маркиона было не основать свою
группу, а объединить всех христиан вокруг тех идей, которые представлялись ему
единственно истинными, отобрать те произведения, которые он почитал единственно
священными. Маркион впитал многие гностические идеи, но в то же время внес в
свои проповеди и сочинения собственные представления о взаимоотношениях между
божеством и человеком. Маркион почти сразу занял руководящее положение в
римской общине. Этому способствовал и немалый денежный взнос, который он сделал
на нужды общины.
Главной целью Маркиона был полный разрыв с иудаизмом, очищение христианского
учения от отголосков иудаизма и от апокалипсических настроений первых христиан,
ждавших конца света и наступления царства божия на земле. Поражение восстания
132—135 гг. было для него поражением иудеохристианства. Маркион,
по-видимому, впервые выдвинул идею необходимости отбора "священных"
книг — именно для того, чтобы изгнать из христианства неугодные ему идеи и
чтобы сплотить все христианские группировки. Он создал собственное евангелие
(на основе Евангелия от Луки) и распространял отредактированные им десять
посланий Павла. Он написал также сочинение "Антитезы", в котором
обосновал сущность своего учения и оправдывал свое произвольное обращение с уже
созданными "священными" книгами тем, что они были искажены, а он
возродил подлинный, боговдохновенный текст. В частности, он утверждал, что
Евангелие от Луки подверглось обработке со стороны защитников иудейства,
которые вставили туда цитаты из своих "священных" книг. Это
утверждение Маркиона, как и его собственная редакторская деятельность, между
прочим, еще раз доказывает, что различные переделки, вставки, изменения в
христианских сочинениях были достаточно распространены во II в. Недаром
Цельс упрекал христиан в том, что они по много раз переделывали свои
"священные" книги, а Лукиан называл бродячего философа-киника
Перегрина автором многих христианских книг.
Писания Маркиона до нас не дошли (впоследствии церковь не признала их), но
содержание его учения и евангелие можно восстановить на основании цитат,
которые приведены в произведениях его противников. В маркионовском варианте
Евангелия от Луки отсутствовали легенды о рождении Иисуса и Иоанна Крестителя.
Его Иисус не был сыном Марии, выросшим в доме плотника Иосифа. Он прямо сошел с
небес в пятнадцатый год правления Тиберия, появился в Капернауме и выступил с
проповедью сначала в синагоге этого города, а затем Назарете. Маркион, таким
образом, отрицал человеческую природу Иисуса. В этом вопросе его взгляды были
близки группе докетов, которые считали земное существование Иисуса только
кажущимся. Никаких мучений Иисус — воплощенный логос — претерпеть не мог.
Маркиону был чужд образ Иисуса, созданный первыми христианами, того Иисуса,
который "из-за слабых был слаб, из-за голодных голодал, из-за жаждущих
испытывал жажду", как сказано в одном из ранних апокрифических сочинений.
Маркион выступил против признания иудейской Библии (Ветхого завета). Если Иисус
— посланник божий, то уж во всяком случае не иудейского бога Яхве, которого
Маркион объявил носителем злого начала. Ириней писал о Маркионе: "Он
бесстыдным образом богохульствует против проповеданного законом и пророками
бога, говоря, что он — виновник зла, жаждет войны, непостоянен в своих
намерениях и сам себе противоречит. Иисус же происходил от того отца, который
выше бога, творца мира..." ("Против ересей", I, 27, 2).
В соответствии с гностическим подходом к миру Маркион считал невозможным,
чтобы этот мир был создан благим богом. По его учению, истинное божество —
абсолютное благо — никакого отношения к миру не имело. В известной степени он
пошел дальше многих гностиков. Последние говорили о том, что в человеке есть
"блестки" божественного света, которые он может открыть в себе.
Маркион же утверждал, что абсолютное божество не имеет никакой связи с людьми:
они полностью чужды ему. Миссия Иисуса — спасти этих чуждых божеству людей.
Христос выкупил их своей кровью, а купить можно только то, что тебе не
принадлежит, рассуждал Маркион.
В этих рассуждениях он использовал отдельные места из посланий Павла. В послании
к галатам сказано, например: "Христос искупил нас от клятвы закона"
(3:13; в греческом подлиннике на месте "искупил" стоит глагол
"выкупил"); в другом месте того же послания вместо "возлюбившего
меня" Маркион переводил "выкупившего меня", исправляя текст в
соответствии со своим учением (2:20); в греческом языке два эти слова
различаются лишь двумя буквами. "Выкуп" людей из мира, передача их
истинному божеству были следствием благости этого неизвестного бога, спасшего
даже полностью чуждые ему существа. При такой интерпретации миссии Христа в
учении Маркиона ни страшному суду, ни царству божию не было места. По словам
Иринея, Маркион внушал своим последователям, что он "достойнее доверия,
чем апостолы, передавшие евангелия". В соответствии с полным отрицанием
мира и божественного начала в человеке Маркион проповедовал крайний аскетизм:
он не только выступал против повторных браков (как большинство членов
христианских общин), но ратовал за безбрачие, притом не ради "спасения
души" отдельного человека, а чтобы не воспроизводить род человеческий в
этом мире, чтобы "освободить" "выкупленные" души от связи с
миром.
Учение Маркиона довольно быстро распространилось среди христиан разных
областей, его сторонники появились в Италии, Египте, Сирии, Аравии. Одних в
этаж' учении привлекало требование разрыва с иудаизмом;? других, уставших от
тягот обыденной жизни, — аскетизма, который казался способом уйти от
действительности. Руководители римской общины относились к Маркиону
двойственно. С одной стороны, они тоже вели борьбу с иудеохристианством, но
исключение из христианских "священных" книг всех ссылок на Ветхий
завет, всех указаний на связь с иудаизмом означало коренную ломку основ
христианской традиции; традиция же в религиозных верованиях, как известно,
играет огромную роль. Не мог получить одобрения и крайний аскетизм,
неприемлемый для широких слоев христиан; мы уже говорили, что одной из
важнейших задач, стоявших перед христианством, была выработка этических норм,
определяющих поведение верующих в этом мире, поскольку реального освобождения
от него они получить не могли. Аскетизм был для первых христиан путем
достижения царства божия на земле "во время сие". Снимая эту идею,
Маркион лишал бедняков и праведников последней надежды на вознаграждение: слова
о том, что "алчущие насытятся", были вычеркнуты им из евангелия. Если
для какого-нибудь раба — грека или германца, замученного непосильным трудом в
серебряных рудниках Испании, или для галльского ремесленника, которому грозило
разорение, было безразлично, как относиться к пророчествам Ветхого завета, то
вера в вознаграждение — если не в царстве божием на земле, то в царстве
небесном — была для него самым важным в христианстве.
Христианские богословы и руководители ряда общин начали борьбу с Маркионом.
Он был исключен из римской христианской общины, ему даже вернули его взнос.
Однако Маркион продолжал свои проповеди. Сила их, при всей ограниченности того
круга людей, которым они адресовались, заключалась в призыве к уходу от мира,
призыве, который был противопоставлен не только социальной позиции
иудео-христиан, но и стремлению многих христианских деятелей найти пути
примирения с государством. С Маркионом велись длительные переговоры. В конце
его жизни ему предложили вернуться в общину и вновь обратиться в истинную веру
своих сторонников. Но Маркион умер, не успев выполнить это требование.
Учение Маркиона не могло победить, но влияние его, особенно на христианское
богословие, было велико. В связи с его критикой Ветхого завета в ряд
христианских сочинений были внесены изменения. И кто знает, сколько в посланиях
апостола Павла сохранилось фраз, вставленных туда еретиком Маркионом... Попытка
Маркиона отобрать из массы христианских книг "истинные" должна была
подтолкнуть христианских деятелей к тому, чтобы выработать и согласовать список
"священных писаний", определить возможность их использования во время
моления в церквах или в домашнем чтении верующих. Вряд ли идея создания канона
принадлежала именно Маркиону. Она витала в воздухе, поскольку в богословских и
этических спорах христиане ссылались на разные сочинения, именно их почитая
истинными. Но Маркион был, несомненно, одним из первых, кто практически
попытался осуществить составление канона и тем самым побудил своих противников
сделать то же, но с других идейных позиций.
Маркион действовал в рамках римской общины, придерживавшейся того
направления в христианском вероучении, которое впоследствии стало
господствующим. Но примерно в то же время создаются христианские общины, идейно
и организационно обособившиеся от этого направления. Среди таких общин в
середине II в, как раз и преобладали объединения гностического толка.
Христианские гностики проповедовали прежде всего в восточных провинциях —
Египте, Сирии, Малой Азии. По конкретному содержанию учения разных гностических
групп отличались друг от друга. Общим для них всех было противопоставление мира
духу, признание того, что материальный мир не создание высшего божества —
абсолютного блага, а плод ошибки его творца или сознательных действий злых сил.
Ничто телесное, мирское не может спастись, только те избранные, в душе которых
заложена крупица божественного света, или духа, могут спастись путем
интуитивного познания – раскрытия в себе этого духа — пневмы. Пневма не знает о
самой себе, ее пробуждение и освобождение от оков телесного и душевного мира и
есть гносис — не рациональное познание, а озарение. Это озарение происходит
благодаря действию различных посредников между высшими силами и людьми.
Гностики-христиане такого посредника видели в Христе (божественном слове, логосе),
который пришел спасти, вывести тех, кто принадлежит ему, из низшего мира.
Представления об Иисусе у всех этих групп существенно расходились с теми,
которые отражены в новозаветных евангелиях. Прежде всего, он никак не мог быть
сыном еврейского бога Яхве, которого они называли бессильным или даже злым
началом. Были секты, которые почитали все те библейские персонажи, которые в
Библии выступают противниками бога. Так, была группа почитателей Каина (по
библейскому мифу, Каин — сын Адама — убил своего праведного брата Авеля); была
группа почитателей змия — того самого змия, который, согласно Библии, соблазнил
Еву съесть запретный плод с дерева познания, что привело к изгнанию первых
людей из рая. Члены этой секты считали, что именно змий и был носителем истинного
знания.
Гностики не признавали человеческой природы Христа. Христос воспринимался
ими как предсуществующий спаситель, "первый человек", "небесный
Адам", воплотившийся в Иисусе или вошедший в него. Он сообщает избранным,
обладающим пневмой, тайны высшего мира и открывает пути возвращения туда.
Смерть Иисуса трактовалась как победа над космическими силами зла, освобождение
от них. Конечно, логос, извечный разум, нельзя реально распять на кресте,
поэтому существовало несколько толкований распятия: одни считали, что
пребывание Иисуса на кресте было только кажущимся, другие — что Христос вообще
исчез до распятия, а ослепленные иудеи по ошибке казнили вместо него некоего
Симона, который нес крест для Иисуса к месту казни.
У большинства гностиков важное место в их учениях занимали рассказы о
возникновении телесного мира, в основе которых лежало представление о падении
предсуществующей Души (абстрактного понятия, как бы прообраза реальных
человеческих душ), о разделении совершенного единства на противоположности
(верхнее — нижнее; мужское — женское; правое — левое). Мироздание
представлялось в виде многоступенчатой пирамиды, на вершине которой находится
благой бог (его называли по-разному: Единый, Отец, Благо и т. п.), а на
спускающихся ступенях — различные ангелы, силы, власти (по-гречески — архонты),
постепенно теряющие изначальное совершенство. Внизу же господствует зло.
Из представления о том, что все материальное и даже эмоциональное (сфера
"души") есть зло, разные группы гностиков делали прямо противоположные
этические выводы. Одни проповедовали крайний аскетизм, безбрачие, поддерживали
требование первых христиан отказаться от всех материальных благ. Другие,
наоборот, не признавали никаких моральных запретов. Поскольку и тело и душа
принадлежат к низшему миру, спасти и исправить их нельзя; те же люди, которые
открыли в себе частицы божественного духа, которые мистически соединились с
божеством, не могут "испортиться", они как бы отделены от своего тела
и души, и действия последних их духа не касаются. Отсюда та крайняя
распущенность, которая встречалась в некоторых гностических группах. Ко всем
активным действиям гностики относились отрицательно. Они не принимали протест
не только в социальной, но и в религиозной сфере, как, например, отказ
поклоняться статуям и изображениям римских императоров. По учению видного
гностика II в. Василида, истинное благо для всех существ придет только
тогда, когда каждое будет знать только самого себя и свою сферу. Василид
безразлично относился к такому острому для христиан вопросу, как отступничество
при гонениях. Нет никакого смысла в мученичестве и борьбе, утверждал он.
Отречется внешне человек от своей веры или нет, от этого ничего не изменится;
значение имеет только его внутреннее состояние, его внутреннее прозрение божества.
Одним из наиболее известных гностиков II в. был Валентин. Родился он в
Египте, начал свою деятельность в Александрии; около середины II в. (между
130 и 160 гг.) учил в Риме. Римская христианская община не
приняла учения Валентина, но в Египте, Малой Азии, некоторых городах Италии у
него было немало сторонников. Согласно учению Валентина, абсолютное божество —
"неизвестный отец" создал Разум; затем появляются различные
"эоны" (извечные сущности, порожденные божеством). Совокупность эонов
образует духовную полноту, единство бытия — плерому ("полноту"). Эоны
не знают истинного отца, поэтому при творении мира была совершена ошибка. Эоны,
а затем различные силы и власти, находящиеся уже вне плеромы, возникают попарно
(каждая пара рождает следующую). В мире существует резкое разделение на
противоположные пары; так, правым архонтом (властью) Валентин называл
непосредственного создателя мира, а левым — Сатану (образ, заимствованный им из
иудейских и христианских представлений)" Христос (одна из сущностей в этом
мистическом процессе разделения единого бога) открыл людям возможность гносиса,
т. е. духовного достижения плеромы. Гносис — индивидуальное откровение — и
есть спасение, но это спасение может быть только духовным".
Все эти алогичные, оторванные от конкретной реальности построения были не
просто попыткой сочетать идеалистическую философию с христианским учением или
приспособить веру в спасителя Иисуса к положениям, высказанным еще Филоном
Александрийским; они были выражением ощущения абсурдности реального мира,
стремлением создать картину мироздания, полностью исключенную из действительной
жизни, замкнутую в самой себе. Перечисление всех этих рождающихся из самих
себя, опускающихся и подымающихся эонов создавало определенный настрой,
уводивший человека от сознания реальных связей между предметами в игру
абстрактных понятий, рождало иллюзорное ощущение освобождения от
действительности.
Естественно, что для Валентина, как и для других гностиков, Иисус был лишен
человеческой сущности. Валентин писал об Иисусе: "Он ел и пил особенным
образом, не отдавая пищи; сила воздержания была в нем такова, что пища в нем не
разлагалась, так как он сам не подлежал разложению"[27].
У христиан-гностиков не было выработанной догматики; каждый проповедник или
автор трактата вводил свои эоны, менял связи между ними, но общее впечатление
от картины гностического мира оставалось одним и тем же. Именно потому, что
"познание" для гностиков было не рациональным, а интуитивным, своего
рода озарением, для них было несущественно, в каком порядке рождались эти эоны
или как они конкретно назывались.
Однако одних только рассказов о неизвестном божестве и проистекающих из него
сущностях было недостаточно, чтобы привести себя в экстатическое состояние,
которое воспринималось как воссоединение с божеством, как восстановление
разорванного единства мира. Гностики совершали магические обряды, произносили
заклинания, в которых большую роль играли верования, уходящие в глубокую
древность.
В учениях гностиков-христиан возродилась та сложная древневосточная магия,
против которой выступали первые последователи христианского учения...
Гностики образовывали тайные союзы, куда попасть, в отличие от обычных
христианских общин, было очень трудно. Вступающие должны были давать особые
клятвы. Вот одна из таких клятв: "Клянусь благим, который выше всего,
хранить эти тайны и никому их не говорить, а также не отвращаться от благого к
твари (т. е. к сотворенному. — И. С.)". Некоторые группы
христиан-гностиков селились в уединенных местах, вдали от больших городов,
чтобы избежать общения с инаковерцами и создать соответствующую обстановку для
гносиса. Наследием этих групп в ортодоксальном христианстве явилось монашество,
чуждое по духу ранним христианским экклесиям.
Именно в тайных организациях гностиков и появились тайные писания в
собственном смысле слова. Они были предназначены для избранных, для тех, кому
было доступно "истинное познание".
Учения гностиков вызвали ожесточенную полемику со стороны многих богословов
II—III вв. Замкнутость, таинственность, сложные магические обряды
гностиков — все это годилось только для изолированных групп, искусственно
поставивших себя вне существующего общества. Многие верующие из социальных
низов не могли понять сложных описаний ступеней мироздания, не могли отказаться
от надежды на спасение в царстве божием (или в царстве небесном) — спасение
всех верующих, а не только пневматиков. С другой стороны, руководители
христианских общин не могли не понимать, что учение гностиков, с их невниманием
к этике, к нормам поведения человека в реальной жизни, не могло помочь
христианству найти свое место в системе общественных отношений Римской империи,
установить контакт с государственной властью. Идея об избранности тех, кому
доступен гносис, была чужда не только широким народным массам, но и
господствующим слоям общества, ибо в основу этой избранности был положен не
социальный принцип, не положение в иерархической структуре общества (или в
иерархической структуре складывающейся христианской церкви), а возможность
интуитивного познания божества, которое могло проявиться в любом человеке.
МОНТАНИСТЫ
Борьба с гностицизмом была долгой и трудной. Как мы уже говорили, даже в
сочинениях, включенных в Новый завет, проявились элементы гностического подхода
к миссии Иисуса. Чем дальше уходило христианство от проповедей первых христиан,
в которых главным было обещание второго пришествия, тем большее влияние
приобретали учения, сосредоточивавшие внимание на идее духовного спасения.
Против гностиков были направлены многие сочинения христианских писателей.
Значительное место полемике с гностиками уделил Ириней в своем произведении
"Против ересей". Он отстаивал тезис о том, что каждый уверовавший в
смерть и воскресение Христа может спастись, что не только душа, но и тело во
время страшного суда будет воскрешено. Ириней, например, обвинял гностиков в
том, что они едят "идоложертвенное", "предаются разврату" и
т. п. Интересно, что, пытаясь скомпрометировать гностические учения в
глазах рядовых верующих, Ириней подчеркивает их аморальность, отсутствие
разработанной этики. Ведь именно потребность в моральных нормах, в предписаниях
этического характера остро ощущалась христианами II в. (да и не только
христианами). Гностики в свою очередь подвергали критике те направления в
христианстве и те догматы, которые не соответствовали их представлениям.
Подробнее об этом мы расскажем при анализе рукописей из Хенобоскиона. Критика
со стороны гностиков побуждала ортодоксальных теологов пересматривать отдельные
положения, вносить изменения в свои "священные" книги. Они пытались
сформулировать основные положения христианства, которые должны быть
непреложными для всех христиан. Очень много о таких положениях пишет Ириней.
По-видимому, именно он первый стал утверждать, что образцовой общиной является римская
община, что учение, которому следуют члены этой общины, и есть истинное.
Выступая против учения и поведения гностиков, Ириней не проповедовал идеи
первых христиан. Он защищал зажиточных христиан и их право владеть своим
имуществом. Он писал, что не следует осуждать приобретающих богатство, ибо бог
"справедливо печется о том, что будет служить ко благу".
Такая позиция, достаточно распространенная среди руководителей и идеологов
христианских общин, не могла не вызвать протеста среди верующих — выходцев из
социальных низов. Этот протест в условиях того времени мог быть облечен только
в религиозную форму. И действительно, во второй половине II в., когда в
империи начался внешнеполитический, а затем и внутренний кризис, в христианстве
появляется новое течение, с которым церкви пришлось бороться не менее упорно,
чем с гностическими группами. Это течение связано с именем Монтана. Он был
жрецом фригийской[28] богини Кибелы,
потом принял христианство и начал проповедовать свое учение, в котором были
возрождены элементы ранних христианских верований. Как и в первые десятилетия
существования христианских общин, главную роль среди сторонников Монтана играли
пророки. Пророчествовал сам Монтан, пророчествовали его сподвижницы Присцилла и
Максимилла. Возможность обрести дар пророчества признавалась за любым верующим,
через пророков шло распространение нового учения, в то время как в большинстве
христианских общин не только в организационных вопросах, но и в вопросах
вероучения руководящая роль принадлежала епископам. Монтанисты возобновили
собрания христиан с общими трапезами — практика, от которой другие христианские
общины уже отказались, заменив их собраниями для молений и выслушивания
проповедей епископов. Отношение монтанистов к епископату вызвало протесты со
стороны христианских богословов. Один из церковных писателей — Иероним с
возмущением писал о монтанистах: "У нас первое место занимают епископы, у
них епископы на третьем месте, а первое место занимают патриархи города Пепузы
во Фригии, а второе — так называемые товарищи, и таким образом епископы
скатываются на третье, почти последнее, место". Город Пепуза упомянут в
этом отрывке не случайно. Дело в том, что монтанисты вновь, как некогда автор
Апокалипсиса Иоанна, проповедовали скорое второе пришествие и наступление конца
света. И это второе пришествие, согласно их учению, должно было произойти в
Пепузе (монтанисты называли это местечко "небесным Иерусалимом").
Сторонники Монтана толпами шли в Пепузу, чтобы стать свидетелями этого события.
В ожидании страшного суда монтанисты обязывались соблюдать строгий аскетизм.
Монтан призывал к постам и расторжению браков. Движение монтанистов — один из
последних в условиях Римской империи всплесков надежды низов на торжество
царства божия на земле. Его породил разразившийся кризис империи, а также
недовольство усиливающейся властью епископов; другими словами, его породило то
же ощущение безысходности, которое вызвало появление подобных настроений у
верующих I в. Трагическая наивность этих верований приводила к тому, что
многие люди бросали свои дома, все то немногое, что они имели, и шли, часто
голодные и босые, встречать второе пришествие, которое так и не
наступало...
Христианские епископы начали борьбу с монтанистами. Были собраны местные
съезды епископов, которые должны были осудить монтанистов и сплотить
христианские общины в борьбе с ними. Те христианские деятели, которые не могли
прибыть на съезд, были опрошены письменно; так было получено осуждение учения
Монтана у "лионских мучеников" — христиан города Лугудуна
(современный Лион), которые находились в темницах. С ними связались, вероятно,
через навещавших их единоверцев. Таким образом возникла новая форма объединения
христианских общин — съезды (соборы) епископов, сыгравшие огромную роль в
выработке христианской догматики в период превращения христианства в
государственную религию. Но пока еще у епископов не было возможности заставить
всех верующих подчиняться их решениям. И хотя авторитет соборов сыграл
определенную роль, монтанизм продолжал распространяться не только в Малой Азии,
но и за ее пределами. Например, один из самых крупных христианских писателей II—III вв.,
Тертуллиан, живший в Карфагене, поддерживал монтанизм. Противники этого течения
от догматических споров и осуждений перешли к самым фантастическим обвинениям в
адрес монтанистов. Руководитель римской христианской общины Сотер заявил, что
монтанисты во время своих таинств используют кровь младенцев, т. е.
совершают ритуальные убийства. Интересно отметить, что те же самые обвинения
возводили языческие противники христианства на всех последователей нового
учения. Теперь церковь воспользовалась этим обвинением, чтобы опорочить неугодное
ей течение внутри христианства. Причем, заметим, обвинение было таково, что оно
не только должно было отвратить от монтанизма верующих, но и обратить на него
внимание римских властей, и без того, вероятно, недовольных шествиями бедняков
в Пепузу. Сотер и его сторонники как бы подставляли монтанистов под удар со
стороны римского государства и пытались тем самым расправиться с этим движением
руками римских чиновников и легионеров. По-видимому, были и прямые столкновения
между сторонниками и противниками учения Монтана. Евсевий сообщает, что первые
называли своих преследователей "пророкоубийцами", а одна из пророчиц
— Максимилла говорила, что ее гонят, "как волка от овец".
Движение монтанистов, то разгораясь, то затухая, просуществовало довольно
долго. В VI в. император Восточной Римской империи Юстиниан запретил
устраивать им совместные трапезы.
Монтанисты имели свою литературу, хотя главную роль в их учении играли
устные проповеди. Были у них и свои евангелия. Но эта литература до нас не
дошла. У христианских писателей приводятся только отдельные фразы из
произведений монтанистов. Скудость цитирования при ожесточенности борьбы
объясняется, по-видимому, тем, что между монтанистами и другими христианскими
учениями не было существенных догматических расхождений. Тертуллиан писал, что
они признают те же таинства и праздники, что и христиане ортодоксального
направления. Монтанисты возрождали обычаи и верования первых христиан;
освященные давностью и авторитетом. Многое из того, во что они верили,
содержалось в книгах, которые почитали почти все христиане. Споры велись не по
существу учения; монтанистов обвиняли в нарушении традиций (хотя они скорее их
придерживались), в неуважении к епископату и даже, как уже упоминалось, в
убийствах. Поэтому хотя мы и знаем о существовании монтанистских
"священных" книг, раскрыть их содержание мы не можем.
Гностицизм и монтанизм были как бы двумя крайними точками, по направлению к
которым развивались разные христианские течения во II в. и в борьбе с
которыми складывались догматика, этика и организационные формы учения,
сумевшего наиболее адекватно приспособиться к окружающему обществу и
государству. Именно это учение было признано в IV в. на Никейском соборе,
где председательствовал сам император Константин, всеобщим (т. е. католическим),
единственно правильным, православным (т. е. ортодоксальным). И вплоть до
разделения христианской церкви на восточную (православную) и западную
(католическую) она носила единое название — ортодоксальная католическая
церковь.
Борьба внутри христианства во II в. не прошла бесследно. Многие учения
того времени нашли свое продолжение в сектах и религиозных группах последующих
эпох. А литература, не признанная церковью, "тайные писания",
отражающие эту борьбу, раскрывают нам новые аспекты формирования христианской
идеологии, позволяют глубже понять социальные и общественно-психологические
корни этой религии и сущность ее эволюции.
ЕВАНГЕЛИЯ ИЗ ХЕНОБОСКИОНА
ХРИСТИАНСТВО В ЕГИПТЕ
Мы уже говорили о том значении, которое имеют для изучения христианской апокрифической
литературы археологические открытия. Первое место среди этих открытий,
бесспорно, занимает библиотека христиан-гностиков, найденная, как упоминалось
выше, на месте древнего Хенобоскиона в Верхнем Египте. В III—IV вв.
христианские группы, жившие в этом районе, собрали свои "священные"
книги, отражавшие основные положения их учения и наиболее ими чтимые. Интересно
отметить, что это собрание относится примерно к тому же времени, что и
канонический список Ветхого и Нового заветов на греческом языке, составленный в
Нижнем (Северном) Египте. Возможно, в противовес ортодоксальным христианам,
египетские христиане-гностики решили отобрать свой "канон".
Произведения, найденные в Хенобоскионе, относятся к разным жанрам. Здесь
есть рассуждения о происхождении мира, догматические трактаты, диалоги,
апокалипсисы, наконец, евангелия. Одно из евангелий действительно называется
Евангелием Истины, как об этом писал Ириней. Тексты из произведения, которое
христианские писатели называли Евангелием египтян, оказались включенными в
гностическое сочинение под характерным названием "Книга великого
невидимого духа". Гностическая литература из Хенобоскиона написана на
коптском языке. Но это не оригиналы, а переводы более ранних греческих текстов.
Существование библиотеки христианских гностиков в Египте не случайно: в этой
римской провинции начиная примерно со второй четверти II в. было довольно
много замкнутых христианских общин, живших преимущественно в Верхнем Египте — в
районе Ахмима, Асьюта, Хенобоскиона.
В начале своего распространения в Египте христианство проникает,
по-видимому, прежде всего в Александрию — крупнейший город и порт. Со II в.
к христианству стали примыкать и египтяне — жители отдаленных сельских
местностей. Распространение христианства, часто именно в его гностическом
понимании, среди сельских жителей Египта было связано с особенностями их
положения, с теми пассивными формами борьбы, которые они применяли против
власть имущих, с традициями египетских верований, оказавших влияние на
гностические учения.
Египет был присоединен к Риму в 30 г. до н. э. В наследство
римлянам от последних египетских царей, не способных вести сколько-нибудь
действенную политику, досталось расстроенное хозяйство. Оросительная система,
без которой невозможно было заниматься земледелием, находилась в плачевном
состоянии. Римские правители пытались восстановить и улучшить египетскую
ирригационную систему, но только для того, чтобы иметь возможность собирать как
можно больше податей с египетских крестьян. Египет был одним из основных
поставщиков хлеба в Рим и Италию. Сборщики податей не останавливались ни перед
чем, чтобы выколотить из земледельцев подати. Бедность крестьян, преследование
их за недоимки и бегство их в страхе перед наказанием были явлениями массовыми.
В одном из папирусов II в. сообщается, что в каком-то селе "люди
большей частью исчезли, ибо раньше в селе людей было 85, теперь же [число
их] уменьшилось до 10, а из них 8 человек ушло". Уходили из
деревень, не имея возможности уплатить подати, уходили, боясь наказания за
участие в стихийных выступлениях. Так, в другом папирусе (тоже II в.)
говорится об амнистии тем, кто бежал из родных мест из-за прошедшей смуты и
"тогдашней их нужды".
Куда было деваться беглецам? Они становились бродягами, нанимались в
батраки, попадали в кабальное рабство. Римские власти боролись с
бродяжничеством. Многие беглецы поэтому вступали в тайные религиозные общины,
селились в уединенных, труднодоступных местах. Среди таких общин были и общины
гностиков. Со II в. в Египте появляются первые монашеские секты. Именно в
уединении они стремились "освободиться" от мира и обрести то душевное
состояние, которое позволило бы им достичь мистического "познания
божества". Конечно, далеко не все сложные построения гностиков об эманациях
божества, о плероме, эонах были доступны выходцам из египетских деревень. Но в
египетских гностических учениях — и христианских и нехристианских — многое было
взято из древнеегипетских религиозных представлений и из учений
древнеегипетских жрецов. Поклонники Гермеса Триждывеличайшего, в чьем учении
очень сильны гностические черты, отождествляли его с египетским богом Тотом.
В одной легенде о сотворении мира, сложенной мемфисскими[29] жрецами, в качестве творца мира выступал бог Пта,
который создал мир и богов своим словом: все, что он называл, воплощалось в
реальные вещи. В другой египетской космогонии рассказывается о первоначальном
хаосе, откуда вышел бог Атум (олицетворение света, солнца, творческого начала),
затем возникали пары различных божеств, которые породили последовательно новые
пары богов. Космогонии гностических трактатов, где эоны порождали эоны, могли
восприниматься как нечто схожее с этими древними верованиями египтян. Хотя
большинство египетских богов почитались в конкретном облике и наделялись
определенными функциями, среди них были и олицетворения абстрактных понятий
(такие божества появлялись прежде всего в жреческих обработках древних мифов);
так, бог Атум, согласно уже упомянутой космогонии, создал двух богов —
изречение и познание (оба понятия стали важными составными частями учений
гностиков).
В период империи многие древние божества из сверхъестественных существ,
повторяющих образ и подобие человека, превращаются в представлениях их
почитателей в символы непознаваемых надмировых сил. Такими стали восприниматься,
например, древнеегипетские божества Исида и Тот. Исида почиталась как
всемогущее и всемилостивое божество, владычица природы; Тот считался творящей
силой (демиург-творец) и победителем сил зла.
Многие магические обряды и заклинания, которые применяли гностики, были
заимствованы ими из древних культов Египта. Достаточно указать на ту роль,
какую и в гностицизме, и в египетской религии играла вера в магический смысл
имени: знание имени бога или демона давало якобы человеку власть над ним,
приобщало его к божеству. В древнейших религиозных текстах египтян, где были
записаны магические формулы, которые должен произнести умерший на суде в
загробном царстве Осириса, перечислены имена присутствующих на этом суде
богов-демонов. Произнося их имена, умерший как бы подчиняет себе этих демонов.
В основе подобных представлений лежало первобытное отождествление предмета и его
обозначения, слова и явления. У гностиков-христиан не было такого прямого
отождествления, в их учениях слово, имя, понятие отрывается от конкретной
реальности и выступает как самостоятельно извечно существующая сущность.
Вероятно, не все последователи их учений, удалившиеся в глухие районы Верхнего
Египта, осознавали в полной мере такое восприятие понятий. Они могли вкладывать
в рассуждения о Слове свои привычные магические представления.
Почему же тогда эти люди отказывались от своих традиционных верований, от
обрядов господствовавшей религии? Дело в том, что древнеегипетская религия не
признавала мир злом: боги, управляющие миром, творят только правильное и
доброе, зло исходит от людей. Но ко времени распространения христианских
гностических учении в Египте вера в справедливость богов, от которых зависит
земной мир, была подорвана. Если древний египтянин еще молил богов о продлении
жизни на земле, то египтянину II в. вся жизнь казалась злом и несчастием,
и мечтал он не об ее продлении, а об избавлении от. нее. Идея гностиков о том,
что мир создан по ошибке или просто является творением злых сил, была понятна
многим людям того времени. Таким образом, с одной стороны, близость некоторых
представлений и выражений, которыми пользовались христиане-гностики, к
египетской религии и магии, а с другой стороны, общие для населения всей
Римской империи поиски нового пути религиозного спасения приводили в ряды
гностиков в Египте людей самого разного социального положения. Сложный состав
египетских групп христиан-гностиков в известной мере отразился и на характере
литературы, найденной в Хенобоскионе. Здесь были и философские трактаты, и
произведения, сохранившие (хотя и в переосмысленном виде) древнюю христианскую
традицию, и сочинения, наполненные магическими формулами. Мы остановимся на тех
книгах из Хенобоскиона, которые наиболее тесно связаны с христианским учением.
ЕВАНГЕЛИЕ ИСТИНЫ
Как уже отмечалось, среди хенобоскионских рукописей есть такие, которые
названы евангелиями: Евангелие Истины, Евангелие Филиппа и Евангелие Фомы. По
форме эти евангелия отличаются от других христианских евангелий, как
канонических, так и апокрифических: они не содержат рассказа о жизни и
деятельности Иисуса; они содержат рассуждения о гносисе, поучения и, как в
Евангелии Фомы, речения Иисуса.
Евангелие Истины названо так по первым словам рукописи: "Евангелие
истины есть радость для тех, кто получил от отца истины милость познать его
через могущество Слова, пришедшего из Плеромы..." Все это типичная
терминология гностиков: отец истины — верховное, абсолютное божество; плерома —
полное, совершенное бытие; слово — посредник между людьми и божеством.
Евангелие в этом контексте приобретает свой первоначальный смысл: это не
"священная книга", а возвещение истины, благая весть о ней. Автор
этого произведения как бы заново возвещает благую весть, не признавая
евангелий, существовавших до написания Евангелия Истины. В последнем почти
полностью отсутствует распространенная христианская догматика, хотя
традиционные рассказы об Иисусе, безусловно, знакомы его автору. Ученые
обнаружили в Евангелии Истины ряд выражений, совпадающих с выражениями и оборотами,
встречающимися в Новом завете (евангелиях, Апокалипсисе Иоанна, послании Павла
к евреям). Но осмысление и контекст этих выражений иной. Характерно, что имя
Иисуса употребляется в Евангелии Истины всего несколько раз. В основном там
говорится о Слове, которое те, к кому оно было обращено, называют спасителем,
"ибо таково название дела, которое оно призвано выполнить для спасения
тех, кто не знает отца". О земной жизни Иисуса сказано, что он пришел
"в подобии тела. Свет говорил его устами". Дело Иисуса — дать свет
тем, кто пребывал в темноте. "Он дал им свет. Он дал им путь. Этот путь —
истина, которой он учил". Иисусу-Слову противопоставлено Заблуждение —
столь же абстрактное понятие, как и Слово. Заблуждение возненавидело Иисуса за
то, что тот дал свет людям, и стало преследовать его. В Евангелии Истины нет
идеи распятия Иисуса как искупления за грехи людей. Там сказано, что Иисус
"унизил" себя до смерти, так как знал, что смерть его означает жизнь
для многих. Сам факт распятия упомянут, но интерпретирован довольно
своеобразно: Иисус был пригвожден к дереву и стал "плодом знания об
Отце". Здесь употреблено слово "дерево", а не крест, чтобы
создать впечатление о нем не как об орудии казни, а как о "дереве
жизни". Интересно отметить, что речь идет не о повешении на кресте, как в
Деяниях апостолов, а о пригвождении к древу. Эта традиция восходит к Евангелию
от Иоанна (20:25), где упоминаются раны от гвоздей на руках Иисуса, и к
апокрифическому Евангелию Петра, где также говорится о том, что Иисус был прибит
гвоздями. По-видимому, ко времени оформления основной христианской литературы
среди христиан не было единого представления о том, каким именно способом был
распят Иисус. Но для автора Евангелия Истины реальность казни не имела
значения: распятый Иисус — это символ плода на дереве жизни. Он не воскресает,
а снова становится самим собой, т. е. извечным словом и мыслью божией. Он
сбросил "смертные одежды" и облекся в бессмертие, которое никто не
может отнять у него. Таким образом, в Евангелии Истины Иисус не имеет
человеческой природы, его земное существование лишь видимость, подобие
телесности. Насколько далек этот образ не только от сына плотника Иосифа из
иудео-христианских евангелий, но и от богочеловека Нового завета!
Используя отдельные конкретные образы, встречающиеся в других христианских
произведениях, автор сознательно абстрагирует их. Так, в Евангелии от Матфея
(12:11-12) рассказывается, что Иисус в споре о том, можно ли исцелять в
субботу, привел такой аргумент: "Кто из вас, имея одну овцу, если она в
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек
овцы!" Здесь, чтобы показать лицемерие людей, уличивших Иисуса в нарушении
религиозных правил, приводится самый обыденный пример. В Евангелии Истины
эпизод с овцой толкуется символически: человек не просто вытащил овцу, он
"дал жизнь овце", чтобы люди знали в своих сердцах, что
"спасению" не разрешено отдыхать. И человек, и овца, и спасение
приобретают здесь иной смысл, а вопрос о том, что можно и чего нельзя делать в
священный день, имевший реальное значение для иудеохристиан, в этом
произведении полностью снят.
В Евангелии Истины отсутствуют моральные поучения и этические нормы.
Христианство для его автора — возвращение к истинному знанию о боге, которого
люди забыли, открытие божества в самом себе. Подобно поэтам, он сравнивает
земную жизнь с тревожным сном. Люди — жертвы пустых образов из снов, они
находятся во власти страха и тоски. Они забыли, откуда они вышли и куда могли
бы вернуться. Незнание Отца и есть причина их страхов, их неуверенности. Но
также как свет разгоняет ночные видения, так и гносис (мистическое познание)
освобождает людей от страха. Человек, открывший в себе божественный дух,
возвращается к богу: "Когда его зовут, он слышит, он отвечает, он направляется
к Тому, кто зовет его, и возвращается к нему..." Обладая гносисом —
внутренним откровением, человек выполняет волю "зовущего его".
Посредством гносиса люди пробуждаются, вспоминают, освобождаются от ошибок
"Благо человеку, который обрел самого себя и пробудился" — вот, по
существу, единственный путь к спасению, о котором говорится в Евангелии Истины.
"Знание" носит для автора этого произведения чисто интуитивный
характер, оно вложено в душу человека. "Маленькие дети обладают знанием
Отца", — сказано в этом евангелии.
Евангелие Истины написано ярким, доступным и в то же время высоким стилем.
Это не обработка различных версий и сказаний, а цельное произведение, созданное
одним автором, скорее художественное, чем религиозно-догматическое,
своеобразная проповедь, рассчитанная прежде всего на эмоциональное воздействие.
Исследователи полагают, что Евангелие Истины или было написано самим
Валентином, известным гностиком, о котором речь шла выше, или создано в кругу
его ближайших учеников. Текст, открытый в Хенобоскионе, представляет собой
перевод с греческого оригинала, который мог быть написан не позже 175 г.
Образный язык, отсутствие запутанных мифологических рассказов о происхождении
мира, скрытое переосмысление образов и выражений, почерпнутых из более древней
христианской традиции, сделали это произведение доступным для восприятия в
разных христианских группах, но главным образом, конечно, в группах
гностического толка. Оно не было создано той сектой, которая скрывалась от мира
в районе Хенобоскиона. Вероятнее всего, оно было занесено туда и затем включено
в число "священных" книг этой секты.
В Евангелии Истины нет ни слова о втором пришествии, о страшном суде или о
вознаграждении праведников в потустороннем мире. Автор этого сочинения
обращается к человеку — отдельному, одинокому, который только внутри самого
себя может обрести спасение. В таком подходе выражена крайняя степень
отчуждения человека от окружающего мира, жизнь в котором для автора Евангелия
Истины наполнена страхом, тревогой, неуверенностью. Распад традиционных
общественных связей, который вызвал кризис античного мировоззрения, необычайно
остро ощущается в этом произведении: человек живет в отрыве не только от
чуждого ему мира, но и от других людей, поэтому проблемы этики, норм поведения
не существуют для создателя Евангелия Истины. Он пытается освободить своих
последователей от страха, причем, по сути, не только от страха перед миром, но
и от страха перед богом, страха, на котором основаны требования ортодоксальной
христианской этики. Ведь "познание" божества означало и соединение с
ним.
Валентин и его ученики стремились переосмыслить христианское учение,
оторвать его от жизненной конкретности, в которой происходит действие
христианских преданий. Они обращались к абстрактному человеку, к его внутренней
сущности вне реальных условий существования людей. Всеобщность христианской
проповеди ("нет ни эллина, ни иудея", как сказано в посланиях Павла),
которая обеспечила новой религии широкое распространение, нашла здесь свое
крайнее выражение. Но в то же время представление об индивидуальном озарении
как единственном пути к божеству создавало новых "избранных". Те, кто
не смогли приобщиться к гносису, не спасались ни молитвами, ни покаянием, ни
добрыми делами. Недаром смерть Иисуса, согласно Евангелию Истины, означала
жизнь для "многих", но не для всех. Гностическое христианство было
так же далеко от представлений о всеобщем равенстве, как и ортодоксальное
направление, среди сторонников которого к концу II в. уже сложилось
иерархическое управление общинами верующих.
ЕВАНГЕЛИЕ ФИЛИППА
В отличие от Евангелия Истины, Евангелие Филиппа, также обнаруженное среди
рукописей Хенобоскиона, представляет собой религиозно-философский трактат,
предназначенный для более узкого круга читателей. Он содержит гностическую мифологию
и символику, состоит из отдельных, не всегда связанных между собой рассуждении.
Название "Евангелие Филиппа" стоит в конце рукописи. Рукопись
относится к IV в., но греческий подлинник ее был написан во II в.
Много места уделено в этом произведении вопросам о происхождении и сущности
мира, о "познании" истины, о том, кого можно считать подлинным
христианином. В Евангелии Филиппа содержится открытая и скрытая полемика с
другими христианскими направлениями.
Очень ясно проступает в этом евангелии характерное гностическое
представление о разделении мира на противоположные начала: свет и тьму, жизнь и
смерть, мужское и женское, правое и левое, истину и заблуждение. Добро и зло —
лишь одно из противоречий, существующих в мире. Подобные представления имели
очень древние корни. Уже в первобытном искусстве и мифотворчестве можно
проследить дуалистическое восприятие мира. Но то, что было для первобытного
человека естественным свойством окружающего мира, в религиозно-философских
учениях II в. стало знаком его несовершенства и обреченности. Автор
Евангелия Филиппа писал в этой связи: "Когда Ева была в Адаме, не было
смерти. После того, как она отделилась от него, появилась смерть. Если она
снова войдет в него и он ее примет, смерти больше не будет". Этот разорванный,
смертный мир не мог быть, согласно учению Евангелия Филиппа, создан абсолютным
божеством. Возникновение материального мира было ошибкой: "Мир произошел
из-за ошибки. Ибо тот, кто создал его, желал создать его негибнущим и
бессмертным. Он погиб и не достиг своей надежды. Ибо не было нерушимости мира и
нерушимости того, кто создал мир..." Кто создатель мира — в евангелии не
сказано. Но там упомянуты различные "силы", "власти"
(по-гречески — архонты), ангелы, которые заполняют разрыв между божеством и миром.
Архонты — злые силы — хотели запутать и поработить людей, так как они знали,
что человек одного происхождения с тем, что "воистину хорошо".
Однако автор Евангелия Филиппа не просто человек, проповедующий гностический
подход к миру; он еще и христианин. Поэтому он стремится включить в свои
поучения и некоторые общехристианские положения, сочетая их с общегностическим
мировоззрением. В отличие от Евангелия Истины, в Евангелии Филиппа была сделана
попытка объяснить (при всем неприятии логического подхода) с гностической точки
зрения многие христианские догматы и верования, приспособить одни и отвергнуть
другие. Один из кардинальных вопросов, который встал .перед автором (и
продолжает стоять перед разными христианскими проповедниками), — это вопрос
отношений между всеблагим богом и миром зла. Если, согласно учению Евангелия
Филиппа, мир создан по ошибке и управляется силами зла, то как сочетать с этим
христианские представления о всемогуществе бога и его вмешательстве в дела
земные? Филипп предлагает свое толкование этой проблемы: зло не абсолютно,
утверждает он. В конечном счете и злые силы подчиняются святому духу, "ибо
они слепы из-за духа святого, дабы они думали, что они служат своим людям,
тогда как они работают на святых". Святой дух управляет всеми силами — и
теми, которые подчиняются, и теми, которые не подчиняются. Но из людей силы зла
будут подчиняться только человеку совершенному. Что же должны делать люди для
освобождения от сил зла? Одно — познать истину. "Логос сказал: "Если
вы познаете истину, истина сделает вас свободными". Понятие свободы в
Евангелии Филиппа, как и неоднократно упоминаемое им понятие рабства, не имеет
ни малейшего социального оттенка. Эта свобода — духовная, связанная с
мистическим гносисом. "Незнание — рабство. Знание (гносис) — это
свобода", — сказано в Евангелии Филиппа. Познать истину не просто: истина
не пришла в мир открытой, она "пришла в символах и образах". И
Евангелие Филиппа переполнено символами и образами, которые должны скрыть
истину от "непосвященных" и открыть ее тем, которые эти символы могут
расшифровать.
Важное место в Евангелии Филиппа занимают рассуждения о людях, обладающих
истинным знанием. В начале евангелия проводится одна из основных идей его
автора: люди, обладающие внутренним знанием истины, "таковы, каковы они с
самого начала"; именно эти избранные люди создают других истинных людей.
Эта мысль проводится и в других местах евангелия. "Христос пришел выкупить
некоторых: освободить одних, спасти других. Он выкупил тех, кто чужой, сделал
их своими. И он отделил своих, тех, кого он положил залогом по воле
своей". Итак, есть свои, "истинные люди"; чужие становятся
своими, если внутри себя обретают божественную истину. Автор Евангелия Филиппа
выступает против внешнего соблюдения обрядов, которое становилось характерным
для многих христианских общин его времени. В этом евангелии в различных
выражениях проповедуется необходимость духовного слияния с божеством. Автор
весьма своеобразно толкует догмат о воскресении из мертвых: ему чужда вера в
телесное воскресение, которая была, по существу, связана со стремлением
народных масс получить вознаграждение за все страдания здесь, на земле, и в
формах земной жизни. "Те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут,
заблуждаются. Если не получат сначала воскресения, будучи еще живыми, [то]
когда умирают — не получат ничего", — сказано в этом евангелии. В другом
месте со скрытой иронией говорится о наивных опасениях тех верующих, которые
боятся "воскреснуть обнаженными". Ни плоть, ни кровь, учит автор
Евангелия Филиппа, "не смогут наследовать царствие божие". Плоть
Иисуса — логос, а кровь его — дух святой; "те, кто получил это, имеет еду,
и питье, и одежду". Именно эта, "истинная плоть", согласно
Евангелию Филиппа, воскреснет.
Совершенство человека для автора Евангелия Филиппа лишено моральных
характеристик: совершенный человек — это тот, кто облечется совершенным светом
и сам станет светом. Но, став светом, человек тем самым перестает быть
личностью. В этом учении крайний индивидуализм, выраженный в обращении к
внутреннему миру изолированного человека, сочетался с фантастическим
стремлением преодолеть изолированность столь же крайним способом — соединением
человеческого духа со всеобщей божественной духовной сущностью. До какой же
степени одинокими должны были чувствовать себя в окружающем мире люди, для
которых "спасение" означало не только избавление от мира, но и отказ
от своего "я"!
Однако автор не говорит о том, какими путями можно достичь этого
гностического совершенства, этого растворения в "свете". И здесь
кроется одно из глубоких противоречий гностического христианства. Первые
христиане учили, что почитание распятого мессии, исполнение его заветов
(которые каждая группа христиан формулировала по-своему) поможет спастись
каждому уверовавшему в Христа. Авторы хенобоскионских евангелий заменили веру
гносисом, мистическим озарением, но они не давали никаких советов относительно
того, как, совершая одни поступки и не совершая других, обрести его.
Один из вопросов, который должен был встать перед гностиком-христианином, —
это вопрос о том, как сочетать избранность пневматикой, людей, обладающих
"духом", с христианской проповедью, обращенной ко всем людям, с идеей
о том, что ученики и последователи Иисуса должны распространять его учение. Как
бы в ответ на эти вопросы автор Евангелия Филиппа выдвигает мысль, что человек,
не обладающий духовной сущностью, вовсе не человек, а животное в человеческом
обличье. По его словам, Адам съел плод дерева, которое порождает животных; плод
дерева животных породил людей-животных. Еще раз он возвращается к этой мысли в
том месте евангелия, где определяется, что именно должен делать ученик бога.
Ученик бога должен распознать под телесными формами душу каждого. "Есть
много животных в мире, имеющих форму человека. Когда он познает их, свиньям он
бросит желуди, скотине ячмень, и солому, и траву, собакам он бросит кости.
Рабам он даст всходы, детям он даст совершенное". Свиньи и псы в этом
отрывке напоминают аналогичные образы в Нагорной проповеди из новозаветного
Евангелия от Матфея: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас" (7:6). Нагорная проповедь, содержащая, по-видимому,
наиболее древнюю в Новом завете христианскую традицию, обращена ко всем уверовавшим
в Иисуса. Псы и свиньи в ее контексте — враги, преследующие его учение, от
которых надо оберегать "святыню". Проповедь изобилует моральными
призывами. Именно в ней обещается награда "нищим духом" (или, по
Евангелию от Луки, просто нищим). В Евангелии Филиппа знакомый образ
претерпевает изменения: это не аллегорическое изображение врагов, а
характеристика извечной сущности людей-животных, которые не способны постичь
истину. Внешне образ сохраняется, но суть его меняется кардинально. Такое
обращение с традиционными образами и символами было свойственно всем
христианским направлениям, по-разному толковавшим эти образы и символы,
продолжая при этом считать свое учение истинно христианским.
В приведенном отрывке из Евангелия Филиппа полностью отсутствует как
социальный, так и этический аспект разделения людей. Для его автора существен
только аспект духовный. Реальные отношения приводятся как пример, но им
придается совершенно иной смысл: рабы здесь не рабы людей, а рабы мира, рабы
своего незнания и дети здесь не дети в прямом смысле слова, а сыновья бога,
которых должен открыть ученик и которым он передает истинное учение. Итак, в
гностическом понимании задача проповедника христианства заключается в том,
чтобы найти "детей" и передать им "совершенное", т. е.
помочь им обрести гносис, раскрыть свою истинную сущность. Отрицание значимости
социального положения при определении их ценности, столь свойственное раннему
христианству, проявляется в Евангелии Филиппа в том, что "дети бога"
могут быть найдены где угодно: "Жемчужина, если она брошена в грязь, не
станет более презираемой и, если ее натрут бальзамом, не станет более ценной.
Но всегда ценна для ее обладателя. Подобным образом сыновья бога, где бы они ни
были, всегда имеют ценность для их отца". Избранные могут быть везде — и в
грязи, и среди тех, кто "натирается бальзамом"! Позиция автора
Евангелия Филиппа, как и позиция гностиков вообще, была социально
индифферентна. У последних не было даже того сочувствия к несчастным и
обиженным (нищим, калекам, вдовам), которое так явственно проступает в ранних
христианских сочинениях. Утверждение, которое встречается в Евангелии Филиппа,
что нижнее будет верхним, а верхнее нижним, означает уничтожение того
разделения на противоположности, которое свойственно несовершенному миру и
которое отсутствует в мире совершенном. Правда, в евангелии есть слова о том,
что в этом мире рабы прислуживают свободным, а в царствии небесном свободные
будут служить рабам, но и эта фраза звучит здесь аллегорически, ибо "рабы
этого мира" освобождаются, если они познают истину.
Учение Евангелия Филиппа — для избранных, для тех, кто способен соединиться
с логосом. Этические проблемы, вопросы добра и зла, по-настоящему не волнуют
его автора, хотя он, признавая себя христианином, не мог полностью обойти эти
проблемы, столь остро стоявшие перед многими его современниками. Косвенно он
выступает против аскетизма, проповедуемого некоторыми группами христиан,
затрагивает и вопрос о существовании зла. Как и подобает христианину, он
призывает уничтожить зло до корня в своем сердце, "но оно будет
уничтожено, когда мы познаем его". Таким образом, без гносиса —
мистического познания — невозможно уничтожение зла, и сам факт познания
означает гибель зла. Для автора этого евангелия нет хороших и дурных поступков,
нет хороших и плохих людей, ибо добро не может существовать в этом мире
отдельно от зла: "Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое — братья
друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие не хороши, и
плохие — не плохи, и жизнь — не жизнь, и смерть — не смерть. Поэтому каждый
будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, — неразорванные,
вечные". Проблемы этики, таким образом, переводятся в область мистического
переживания, отрываются от поведения людей в реальной жизни.
Какое же место в этом учении занимает образ основателя христианства? Иисус —
это логос, который пришел спасти "некоторых" (т. е. тех, кто
способен обрести гносис). Эта мысль ясно выражена в образном сопоставлении
слепого и находящегося в темноте: "Если приходит свет, тогда зрячий увидит
свет, а тот, кто слеп, — останется во тьме".
Земное существование Иисуса — лишь преображение мистического логоса. В
Евангелии Филиппа сказано, что "он открылся так, как можно было видеть
его... он открылся великим как великий, он открылся малым как малый, он
открылся ангелам как ангел, и людям как человек". Автор евангелия признает
воскресение Иисуса во плоти, но это некая "истинная плоть", в то
время как плоть, в которой существуют люди, плоть неистинная. Ко времени написания
Евангелия Филиппа уже появился миф о непорочном зачатии Иисуса от духа святого.
Филипп специально останавливается на критике этого утверждения: "Некоторые
говорили, что Мария зачала от духа святого. Они заблуждаются... Когда бывало,
чтобы женщина зачала от женщины?" Последнее возражение основано на том,
что в Евангелии Филиппа святой дух — женское начало, как и в тех не дошедших до
нас христианских текстах, которые были написаны на арамейском языке (как уже
говорилось, в арамейском языке святой дух женского рода). В качестве
дополнительного аргумента приводятся слова Иисуса: "Отец мой, который на
небесах". Автор евангелия пишет, что Иисус не сказал бы этих слов, если бы
у него не было другого отца, он просто сказал бы "Отец мой". Полемика
с догматом о непорочном зачатии показывает, что этот догмат появился
сравнительно поздно. Он не был освящен древней традицией, и поэтому против него
выступали многие христиане, Ясно также, что этот миф мог возникнуть только
среди людей, не говоривших по-арамейски, т. е. за пределами Палестины.
Интересно, что в полемике с теми христианскими догматами, которые кажутся
ему нелепыми, автор Евангелия Филиппа прибегает (как мы только что видели) к
чисто логическому анализу слов, приписываемых традицией Иисусу. Когда же ему
нужно дать свое объяснение каких-то мест из христианских преданий, он
использует образно-символический подход.
В соответствии со своим представлением об Иисусе-логосе, автор этого
евангелия толкует и имена, которыми тот назван в ранних евангелиях: Иисус
Назареянин Христос (мессия). Это не подлинные его имена, утверждает Филипп, так
называли его апостолы. Подлинное имя логоса — тайна. Имя Иисус Назареянин
Христос он тоже толкует как символы и иносказания: Иисус — искупление,
"назара" — истина, "Назареянин" — тот, кто от истины. Общий
же смысл имени следующий: "Христос — тот, кто измерен. Назареянин и Иисус
— тот, кто измерил его". Примечательно, что прозвище
"назареянин" Филипп не связывает с городом, откуда, по преданию,
происходил Иисус. Он воспринимает его как прозвище, т. е. так, как
воспринимали его и многие иудеи, и, вероятно, последователи древней
христианской группы назореев. Такое отношение к слову "назареянин"
показывает, что ко времени создания Евангелия Филиппа общепринятая подробная
версия жизни Иисуса еще не сложилась, что были зафиксированы и почитались
священными только предания, касающиеся самых существенных с точки зрения нового
вероучения событий его жизни. Главным продолжало считаться содержание речений
Иисуса, а не факты его биографии.
Евангелие Филиппа — произведение сложное и многозначное. Оно вобрало в себя
и элементы античной философии с ее диалектическим подходом к миру, и восточные
верования, и положения различных распространенных в то время
религиозно-философских трактатов. Мы остановились здесь лишь на тех идеях этого
евангелия, которые представляют наибольший интерес для общей истории
христианского учения, его эволюции. Это евангелие отражает стремление создать
учение, свободное от наивной веры в чудеса, учение, в центре которого стоял
внутренний мир человека, но не каждого человека, а только того, кто способен
"видеть свет". Как и автор Евангелия Истины, автор Евангелия Филиппа
обращался только к избранным.
ЕВАНГЕЛИЕ ФОМЫ
Наиболее близким к иудеохристианским и новозаветным евангелиям оказалось
найденное среди хенобоскионских рукописей Евангелие Фомы[30]. Апостолу Фоме, можно сказать, повезло: его именем
названы два евангелия, ничего общего между собой не имеющие. Правда, ни одно из
них церковь не признала священным. Хенобоскионское Евангелие Фомы состоит из
отдельных притч и изречений, часто логически друг с другом не связанных. Иногда
коротко дается указание на ситуацию, в которой произносятся речения. В
Евангелии Фомы встречаются речения и притчи, содержащиеся в Новом завете
(главным образом в его трех евангелиях) и в папирусных списках логиев, о
которых мы рассказывали выше. Речения эти иногда совпадают полностью, иногда —
частично. Бывает, что логий, известный нам по текстам папирусов, разделяется и
разные его части приведены в разных местах евангелия. Кроме того, часто изменен
контекст, в котором находится то или иное речение, и от этого существенно
меняется его интерпретация.
Евангелие Фомы имеет большое значение для изучения не только воззрений
египетских гностиков, но и становления христианской традиции, в том числе и
новозаветной. Как и другие хенобоскионские находки, Евангелие Фомы представляет
собой перевод на коптский язык с более раннего греческого источника,
записанного, вероятно, если не в конце I в., то в самом начале II в.
Оно создавалось приблизительно в то же время, что и канонические евангелия, и
восходит к тем же устным и письменным источникам. По-видимому, это евангелие
было одной из самых ранних попыток обработать в духе учения о логосе
раннехристианскую традицию об Иисусе и его речениях. Оно было известно
христианским писателям более позднего времени. Цитату из него приводит,
например, Ориген. Вероятно, оно было распространено и за пределами Египта, во
всяком случае за пределами группы гностиков, нашедших убежище в древнем
Хенобоскионе. Название евангелия стоит в конце рукописи.
Евангелие начинается словами: "Это тайные слова, которые сказал Иисус
живой и которые записал Дидим Иуда Фома". Таким образом, с самого начала
подчеркивается свойственное гностикам представление о тайности учения Иисуса.
Тот, кто обретет истолкование этих слов, не вкусит смерти. Характерно, что
спасение, бессмертие обретается не через веру или добрые дела, но через
истолкование, "познание" скрытого смысла речений. Итак, уже во
вступлении к евангелию читатель предупреждается, что он не должен
останавливаться на прямом восприятии написанного, а должен найти особый,
невидимый поверхностному читателю смысл его. По существу, при всей своей
внешней разнородности, Евангелие Фомы представляет собой попытку дать
достаточно цельное гностическое толкование широко известным среди христиан
поучениям, которые связывались с именем основателя христианства. Однако автор
Евангелия Фомы не только дает возможность перетолкования этих поучений, вводя в
них скрытый смысл, но и прибегает к прямой полемике с теми положениями учения
отдельных христианских групп, которые он не разделяет.
Существенное место занимает в этом евангелии вопрос о царстве божием. Уже
сам этот факт указывает на раннюю дату создания евангелия. Оно появилось в то
время, когда среди христиан разных направлений одним из главных вопросов был
вопрос о вознаграждении всех страждущих в царстве божием. Когда наступит это
царство? Наступит ли оно на земле, или нужно ожидать награды на небесах после
смерти, и что в таком случае представляет собой этот небесный рай — вот что
волновало тогда приверженцев новой религии.
В Евангелии Фомы вместо "царства божия" обычно фигурирует просто
"царство", или "царство отца", или, реже, как в Евангелии
от Матфея, "царство небесное". Уже в первых речениях автор
полемизирует с представлениями о царстве божием, как о чем-то конкретном во
времени и пространстве: "Иисус сказал: если те, которые ведут вас, говорят
вам: "Смотрите, царствие в небе!" — тогда птицы небесные опередят
вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие
внутри вас и вне вас". В этом отрывке в уста Иисуса вложены слова,
направленные против наивной веры народных масс в земные формы царства божия, в
осязаемую награду, которую они получат на земле или на небе за те несчастья,
что выпали им на долю. Слова "те, которые ведут вас" намекают на то,
что учение о царствии небесном — не общепринятое исконное христианское
представление, а взгляды руководителей отдельных христианских общин. В конце
Евангелия Фомы снова говорится о царстве божием, но теперь поднимается вопрос о
сроках его наступления: "Ученики его сказали ему: В какой день царствие
приходит? Иисус сказал: Оно не приходит, когда ожидают. Не скажу: Смотрите там!
Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его". Таким
образом, в мучительных для христиан спорах о царстве божием, которые отражены и
в новозаветных произведениях, автор Евангелия Фомы и те, чьи взгляды он
отражал, заняли особую позицию: царство божие — это извечно существующая
божественная сущность (то же самое, что "свет" или "истина"
в других гностических сочинениях). Оно вне людей, но оно и в них, и только
внутри себя они могут обрести его. Эта мысль повторяется и в другом речении
евангелия. Ученики просят воскресшего Иисуса указать место, где он находится,
на что тот отвечает: "Есть свет внутри человека, и он освещает весь мир.
Если он не освещает, то — тьма". Итак, автор Евангелия Фомы выступает
против конкретных, предметных представлений о царстве божием и об Иисусе,
который "сам и есть свет". Такая трактовка царства божия была
порождена кризисом апокалиптических настроений, связанных с ожиданием скорого
второго пришествия и страшного суда. Кризис этот неизбежно должен был наступить
при столкновении религиозных идей с реальной действительностью. Царство божие,
согласно Евангелию Фомы, вне времени и пространства, и обрести его может только
тот, в ком заложен свет.
Сам Иисус в этом произведении исполнен тайны. Идея о невыразимости сущности
Иисуса присутствует в эпизоде, где Иисус спрашивает учеников, кому он подобен.
Петр сравнивает его с ангелом, Матфей — с мудрым философом, Фома же говорит:
"... мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож". Тогда
Иисус сообщает ему тайно некие слова, которые тот не решается передать другим
ученикам. В этом эпизоде отразились споры о природе Иисуса, которые велись в
христианстве в период создания первых евангелий. Сравнение Петра связано с
представлениями о божественной сущности Иисуса; Матфей видит в нем человека,
как видели в Иисусе человека, например, эбиониты. В ответе Фомы отражен
гностический взгляд на сущность Иисуса, которая якобы не поддается определению
и не нуждается в нем. Эту сущность можно передать только символически, и символ
ее в Евангелии Фомы — разлитый повсюду свет. Интересно в этом отношении, как
использован в Евангелии Фомы логий о повсеместном присутствии Иисуса. В упоминавшемся
выше папирусном фрагменте этот логий выглядит так: человек не одинок "и
где будет один сам с собою, я с ним. Подними камень, и там найдешь меня,
рассеки дерево — и там". В Евангелии Фомы словам о камне и дереве
предшествует совсем иная фраза, характеризующая сущность Иисуса: "Я —
свет, который на всех. Я — все: все вышло из меня и все вернулось ко мне".
Здесь мы видим типичное для всех евангелистов обращение с традицией: берутся
знакомые слова и вставляются в контекст, меняющий их смысл, или к известным
словам прибавляется соответствующее толкование — и поучение приобретает совсем
иную направленность. Создатели христианских "священных" книг не
только почитали себя вправе поступать так с тем, что они услышали от
проповедников или прочитали в более ранних записях, но видели свою заслугу
именно в том, что давали "истинное" понимание традиционных речений и
преданий, их "единственно правильное" истолкование.
Когда создавалось Евангелие Фомы, гностическое христианство еще не
отделилось окончательно от остальных христианских направлений. Христиане,
которым был близок гностический подход к миру, все еще тесно были связаны с
древней традицией. Первые записи речений, вложенных этой традицией в уста
Иисуса, были и для них священными. В Евангелии Фомы есть речения, встречающиеся
и в новозаветных евангелиях, и в папирусных фрагментах. Сопоставление их дает
много интересного для выявления взглядов автора евангелия и методов создания
ранней христианской литературы. Например, к известным словам Иисуса
"Отдавайте кесарево — кесарю, а божие богу" (Мф.22:21) в Евангелии
Фомы сделано добавление: "То, что мое, дайте мне". Это добавление
отделяет Иисуса от бога, в которого верили иудеохристиане, но который не был
для автора Евангелия Фомы "единым и вездесущим началом", т. е.
истинным богом, которого он называет, как правило, "отцом". Вероятно,
этим объясняется и то, что в евангелии опускается эпитет "божие",
когда речь идет о царстве божием. Образ иудейского Яхве слишком тесно связан с
христианским словоупотреблением "бог", "божие", поэтому
христианин-гностик предпочел отказаться от этих слов в своем евангелии, а там,
где он не мог изменить почитаемых, устоявшихся речений, он сделал вставку,
чтобы оторвать образ Иисуса от образа иудейского бога. Возможно, в Евангелии
Фомы определение "божие" отброшено еще и потому, что во время
написания этого произведения оно вызывало устойчивые ассоциации с царством
божиим на земле — тысячелетним царством добра и справедливости. Составители и
редакторы Евангелия от Матфея из тех же соображений заменяли "царство
божие" на "царство небесное".
Интересно сопоставить приводимые в Евангелии Фомы речения, входящие и в
новозаветную Нагорную проповедь, с их каноническими вариантами[31]. У Фомы эти речения приведены в разных местах
евангелия. Между прочим, это еще раз подтверждает вывод ученых, исследовавших
Новый завет, что Нагорная проповедь как таковая никогда не была произнесена. В
Евангелии Фомы сказано: "Блаженны бедные, ибо ваше — царствие
небесное"; "Блаженны те, которых преследовали в их сердце; это те,
которые познали Отца в истине"; "Блаженны вы, когда вас ненавидят и
вас преследуют...; Блаженны голодные, ибо чрево того, кто желает, будет
насыщено". Эти речения ближе по форме к речениям Евангелия от Луки, чем к
Евангелию от Матфея. У Луки также говорится о нищих и голодных (6:20-21), в то
время как у Матфея блаженство обещается "нищим духом", а насыщение —
"алчущим и жаждущим правды" (5:3-6), т. е. людям духовно чистым,
сторонникам новой веры. В речениях, приведенных в евангелиях от Луки и Фомы,
где речь идет о бедняках, обиженных, гонимых, социальный аспект выражен,
несомненно, резче, хотя, согласно Луке, наряду с бедными и голодными награду
получат "плачущие", т. е. вообще все несчастные. В Евангелие
Фомы были включены, по-видимому, наиболее древние варианты этих речений. Но как
же в этом евангелии конкретные бедняки и голодные сочетаются с гностическим
подходом к людям, в соответствии с которым ценность представляют только те, кто
имеет в себе "дух"? Автор Евангелия Фомы, вероятно, имел в виду
возможность перетолкования речений; поэтому он добавил разъяснение к словам о
преследуемых: "... те, которые познали Отца в истине". Кроме
того, в Евангелии Фомы прибавлено обещание блаженства "избранным":
"Блаженны единственные и избранные, ибо вы найдете царствие. Ибо вы от
него, и вы снова туда возвратитесь". Такое добавление (в тексте оно
помещено раньше, чем речение о блаженстве бедных) как бы дает направление для
толкования тех речений, текст которых остался без изменений.
Чисто гностические идеи выражены в Евангелии Фомы в речении, где говорится о
необходимости сделать верхнее нижним. Как и в Евангелии Филиппа, здесь имеется
в виду уничтожение присущих миру (космосу) разделений на противоположности: для
того, чтобы войти в царство, нужно сделать внешнее внутренним, верхнее —
нижним, а мужское и женское — одним. Вообще для Евангелия Фомы, как отмечает
исследовательница этого памятника М. К. Трофимова, характерно
сочетание речений абстрактного и явно мистического содержания с притчами и
примерами, значительно более конкретными, чем аналогичные тексты новозаветных
сочинении. Дело в том, что, в отличие от евангелий Нового завета, которые
подвергались неоднократным изменениям и редактированию вплоть до канонизации
"священных" книг в IV—V вв., Евангелие Фомы в том виде, в каком
оно дошло до нас, представляет собой один из первых опытов объединения идей
ранних христианских групп с мистикой египетских гностиков. Далеко не все притчи
и слова Иисуса, взятые автором евангелия из устной или только что записанной
традиции, он решился или сумел изменить, отредактировать. Но наряду с древними
речениями приводятся логии отвлеченного характера, дававшие читателям своего
рода ключ, с помощью которого они должны были проникнуть в "истинный"
смысл, скрытый за конкретностью этих древних речений.
Более подробно и более образно, чем в Новом завете, дается в Евангелии Фомы
описание борьбы, которую должен вызвать приход Иисуса на землю. В
первоначальном виде это описание, несомненно, относилось к наступлению
страшного суда. Гностики могли толковать его как мистическую борьбу света с
силами зла, как отделение избранных от всех остальных: "Может быть, люди
думают, что я пришел бросить мир в космос, и они не знают, что я пришел бросить
на землю разделение, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое будут
против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против
отца..." Основной текст этого речения имеет аналогии в Новом завете; в
Евангелии от Матфея сказано: "...не мир пришел я принести, но меч, ибо я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее" (10:34-35). В этом отрывке нет упоминания войны и огня и
снято то напряжение, которое вызывает перечисление бед в отрывке у Фомы —
"разделение, огонь, меч, войну...". В Евангелии от Луки аналогичная
фраза еще менее внутренне напряженна: "Думаете ли вы, что я пришел дать
мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме
станут разделяться..." (12:51-52). Все три текста восходят к
представлениям о конце света, свойственным христианам перед первым иудейским
восстанием. В целом текст у Фомы отражает, вероятно, более ранний вариант
речения. Как и при включении речений, тексты которых дошли до нас на
оксиринхских папирусах, составители и редакторы евангелий от Матфея и от Луки
смягчали апокалиптические настроения, выраженные в ранней традиции, отходили от
представлений о скором наступлении конца света, а значит, и царства божия на
земле.
Интересна в Евангелии Фомы притча о пире, которая в разных вариантах
приведена в канонических евангелиях. У Фомы рассказывается, как некий человек
послал раба позвать гостей на ужин, но все они стали отказываться: один —
потому, что вечером должен получить деньги от торговцев; другой — потому, что
купил дом; третий идет на свадьбу; четвертый купил деревню и должен ехать
собирать подать... Тогда господин приказывает рабу пойти на дорогу и привести
тех, кого он найдет. Притча эта в Евангелии Фомы кончается грозным
предостережением: "Покупатели и торговцы не войдут в места моего
Отца". У Луки также господин посылает раба звать гостей, которые, ссылаясь
на дела, отказываются от приглашения. Тогда господин велит рабу пригласить
"нищих, увечных, хромых и слепых" (опять свойственное раннему
христианству обращение ко всем несчастным, отвергнутым существующим обществом),
а затем и всех, кого он встретит на дороге. Заключительной фразы о торговцах и
покупателях в тексте Луки нет. Там акцент делается на другом. В конце притчи
сказано: много званых, но мало избранных, т. е. мало тех, которые
последуют за истинным учением и благодаря этому получат награду. В Евангелии от
Матфея званые не просто отказываются, но еще убивают рабов пригласившего их
царя, за что тут же наказываются. В эту притчу добавлен эпизод с человеком,
который пришел на пир одетый "не в те одежды" и за это был по приказу
хозяина выброшен вон. Таким образом, согласно этому варианту притчи,
наказываются не только те, кто не пожелал присоединиться к учению Иисуса, но и
те, кто исповедует его неправильно ("одетые не в те одежды"). Мораль
в Евангелии от Матфея совпадает с моралью в Евангелии от Луки. Вариант притчи, приведенный
в Евангелии Фомы, воссоздает живую бытовую картину. Причины отказа посетить пир
здесь конкретизированы: в трех из четырех случаев такой причиной служит
торговая сделка. Вывод, направленный против торговцев и покупателей, кажется
поэтому естественным следствием образного строя притчи, в то время как у Луки и
Матфея причины отказа к морали притчи непосредственного отношения не имеют.
Вполне возможно, что у Фомы приведен первоначальный вариант этой притчи, взятый
им из источника, которым пользовался также и автор Евангелия от Луки. Однако
последний, как это было свойственно всем раннехристианским авторам, использовал
притчу для той морали, которая ему показалась более уместной.
Выпады против богатства и стяжательства содержатся и в других местах Евангелия
Фомы. В одной из притч говорится о человеке, который хотел использовать свое
добро, чтобы "засеять, собрать, насадить, наполнить... амбары
плодами". Он подумал об этом "в сердце своем. И в ту же ночь он умер.
Тот, кто имеет уши, да слышит!". Содержится там и характерное в этом
отношении речение, не имеющее аналогий в Новом завете: "Смотрите, ваши
цари и ваши знатные люди — это они носят на себе мягкие одежды и они не смогут
познать истину". Эти отрывки отражают настроения, которые были присущи
первым христианам из низших слоев населения. Но сам факт включения их в
гностическое евангелие показывает, что за подобными настроениями не скрывалось
никакой конкретной социальной программы. Богатство и накопительство — зло,
потому что оно привязывает человека к грешному миру, толкает его на дурные
поступки, несовместимые с христианским учением, а с точки зрения гностиков,
мешает познать "истину". В гностических сочинениях все эти выпады
против богатых, именно в силу их недостаточной конкретности, могли восприниматься
как призывы уйти от реального мира в мир духовный, заменить ценности
материальные ценностями духовными.
Интерес представляют речения из Евангелия Фомы, где обсуждаются вопросы
поведения учеников Иисуса, исполнения ими определенных обрядов. Эти речения
связаны со спорами, которые велись в среде христиан на рубеже I—II вв. по
поводу различных формальных требований к верующим, сохранившихся от иудаизма
или зародившихся уже в христианских экклесиях. Автор Евангелия Фомы резко
выступает, например, против обряда обрезания. Ученики задают Иисусу вопрос о
пользе обрезания, и тот отвечает на него так: "Если бы оно было полезно,
Отец зачал бы их в матери обрезанными. Но истинное обрезание в духе обнаружило
полную пользу". Полемизируя со сторонниками соблюдения иудейских обрядов,
автор приводит вполне логически построенный аргумент, восходящий к
представлениям о разумном устройстве мира (кстати, не свойственным гностическим
учениям). Метод полемики здесь заимствован из античной традиции, освободиться
от которой людям, выросшим в окружении античной культуры, было трудно. Они
могли сознательно отбрасывать античную традицию, обращаться при разработке
своего учения к восточной мудрости, но в спорах с другими учениями они
возвращались к приемам, разработанным античной логикой и риторикой. Поэтому
критика христиан христианами подчас была не менее содержательной, чем критика
христианства со стороны его языческих противников.
Евангелие Фомы призывает, вероятно, к разрыву с иудейством и в речении, где
говорится о том, что нельзя человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, а
рабу — служить двум господам. В конце этого речения подчеркивается, что новое
вино не наливают в старые мехи и не накладывают старую заплату на новые одежды.
В Евангелии Фомы рассмотрены вопросы о молитве, постах и раздаче милостыни —
тех действиях, которые казались многим христианам основным путем достижения
спасения на небе. Мы уже не раз говорили о том, какую роль в христианских
общинах играла благотворительность: раздача милостыни казалась им единственно
возможным способом объединения богатых и бедных в рамках реального мира. Но
автор Евангелия Фомы остро ощущал внешний, формальный характер всех этих
действий, не связанных с внутренним изменением человека. В одном из приведенных
им речений Иисус в ответ на вопрос учеников, нужно ли им поститься, молиться и
подавать милостыню, отвечал: "Не лгите и то, что вы ненавидите, не делайте
этого". Здесь подчеркивается, что внешнее выполнение моральных и
религиозных требований может привести ко лжи и лицемерию. В другом месте
евангелия в уста Иисуса вкладываются еще более резкие слова: "Если вы
поститесь, вы зародите в себе грех, и если вы молитесь, вы будете осуждены, и
если вы подаете милостыню, вы причините зло своему духу". Ученики могут есть
любую пищу, какую им дадут. Единственное, что от них требуется, — это лечить
больных. В конце этого отрывка приведено речение, имеющееся и в Новом завете:
"Ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из
ваших уст, осквернит вас". У Фомы последняя фраза, будучи заключением ко
всему отрывку, имеет более широкий смысл: самое главное — духовное преображение
человека, его внутренняя сущность. Автор выступает даже против молитв, ибо
молитва — это просьба о помощи, о божественном вмешательстве, а человек,
согласно восприятию гностиков, должен обрести "свет" внутри себя и
тем спастись. Лечение больных, пожалуй, единственная обязанность учеников по
отношению к другим людям. Христианин, даже гностического толка, на том раннем
этапе формирования христианства не мог отбросить это требование: ведь в самых
древних рассказах об Иисусе основные "чудеса", совершенные им,
сводились к исцелению больных. В более поздних произведениях гностиков эта
проблема уже не затрагивается.
Отголоском самой древней традиции в христианском учении является речение о
необходимости широко распространять новое учение: "То, что ты слышишь
ухом, возвещай это другому с ваших кровель. Ибо никто не зажжет светильника и
не ставит его под сосуд, и никто не ставит его в тайное место..." Похожие
места есть в новозаветных евангелиях. Эта фраза, как мы уже говорили при
описании зарождения христианства, представляет собой полемику с замкнутостью
кумранских ессеев. В Евангелии Фомы она кажется противоречащей тайности учения,
о котором сказано в начале евангелия. По-видимому, в пору создания Евангелия
Фомы у его автора, как и у многих других христиан, не сложилось еще ясного
представления о том, кому следует проповедовать новое учение: всем ли,
независимо от социального и этнического происхождения, или только иудеям, или
тем, кто способен воспринять "истину"... Автор Евангелия Фомы
склонялся к последнему принципу. Но древнее речение он все-таки включил в свое
произведение, поскольку оно, вероятно, было включено в списки логиев, которыми
он пользовался.
В Евангелии Фомы сохранился ряд моральных требований, содержащихся и в
Нагорной проповеди. В нем есть речение о необходимости любить брата своего, но
нет призывов любить врагов своих, так как это не соответствовало представлениям
об избранности "духовных", которые только и были братьями между собой
(как были ими иудейские сектанты, к которым первоначально обращались слова этой
проповеди).
Евангелие Фомы отражает тот период развития христианства, когда вера первых
немногочисленных групп христиан в скорое второе пришествие начала изживать
себя; когда одни христиане искали путей приспособления к окружающему миру,
другие — к освобождению от него, но не реальному, а духовному; когда стал
расширяться этнический состав христиан, повлиявший на отношение их к иудейским
обрядам; когда начала вырабатываться христианская этика и появилась
необходимость определенных формальных действий, таких, как соблюдение постов и
молитв. Евангелие Фомы показывает нам, каким сложным был путь развития
христианства, какой неопределенной была христианская традиция. Изучение этого
евангелия в сравнении с евангелиями Нового завета приводит к выводу, что
расхождения между "священными" книгами, о которых столько написано во
всех исследованиях, посвященных Новому завету, не были случайными
несовпадениями, неточностями, они были неизбежным следствием самого творческого
метода составителей этих книг, составителей, которые весьма свободно обращались
с заимствованными из устных рассказов и первых записей. Они писали свои
произведения не для того, чтобы передать информацию, а затем, чтобы дать свое
толкование учения. И Евангелие Фомы наглядно показывает, сколь различным по
смыслу могло быть толкование одного и того же речения.
Мы рассмотрели только три произведения из обширной хенобоскионской
библиотеки, но, на наш взгляд, этого достаточно, чтобы показать, какое большое
значение для исторической науки имела данная находка, Книги из Хенобоскиона
раскрыли целое направление религиозно-философской мысли древности, дали
возможность судить о противоречивом развитии раннехристианских верований,
сравнить христианские писания, признанные "священными", не с
отрывками из ранних апокрифов, приводимыми в произведениях христианских
богословов, а с целыми произведениями, авторы которых активно спорили с другими
направлениями в христианстве.
АПОКРИФИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ
О ДЕТСТВЕ ИИСУСА
И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПЕРСОНАЖАХ
ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА
В гностических евангелиях происходило абстрагирование образа Иисуса, которое
было логическим завершением провозглашенной Павлом "всеобщности"
христианства. Превращение Иисуса в "слово", в прачеловека делало его
надмировой и надчеловеческой сущностью, полностью лишало его конкретной связи с
реальностью. Мы уже говорили о том, что такая трактовка образа основателя
нового учения не могла быть близкой широким слоям населения империи, особенно в
тех районах, где еще сильна была вера в богов и героев, совершавших конкретные
подвиги, помогавших одним людям и наказывавших других. Сказочная струя в
христианских произведениях, которая проявлялась в раннем христианстве в
рассказах о пшенице выше человеческого роста в царстве божием, не исчезла и в
христианском, мифотворчестве более позднего времени. Только направленность
этого мифотворчества стала иной. Оно тесно связывается теперь с самой личностью
основателя нового учения. В соответствии с общей тенденцией развития
христианства эта личность постепенно приобретала все более ярко выраженные
сверхъестественные черты, превращавшие его из пророка и богочеловека в
божество. Если у гностиков главное внимание обращалось на вневременную сущность
Христа-логоса, то мифотворчество, о котором мы сейчас говорим, сближало его
образ с образами богов из древних античных мифов.
Ранние евангелия (и канонические, и апокрифические) больше внимания уделяли
проповеди Иисуса, чем его биографии. В частности, в новозаветных произведениях
нет сколько-нибудь подробных рассказов о детстве Иисуса. Это и понятно: о
реальной жизни своего учителя авторы евангелий знали очень мало. Конкретные
события приводятся в их сочинениях как фон для тех или иных высказываний
Иисуса. Только "страсти" Иисуса и его воскресение описаны достаточно
подробно, так как это имело первостепенное значение для доказательства того,
что именно Иисус был мессией. Но для верующих II—III вв. этого было мало.
Греки, италики, галлы, сирийцы стали наделять нового бога чертами своих древних
богов, многие из которых, согласно древним мифам, проявляли свой
сверхъестественный дар с самого рождения. Так, в мифе о древнегреческом боге
Гермесе, покровителе ремесла и торговли, рассказывалось, как новорожденный
Гермес сразу же выказал свою невероятную ловкость: украл трезубец у бога морей
Посейдона, лук и стрелы — у Аполлона. Любимый герой греческих мифов Геракл,
будучи в пеленках, задушил двух огромных змей... Иисус-ребенок также должен был
проявлять с детства чудесную силу, иначе он не мог почитаться как божество
суеверными, воспитанными на языческих мифах людьми.
Со второй половины II в. начали создаваться апокрифы, которые
восполняли пробелы в прежних жизнеописаниях Иисуса. К таким апокрифам относятся
различные сказания о детстве Иисуса. В них нет изложения его учения, догматов
или этических правил христианства. Это скорее мифы, сказки, сочетающие описание
самых невероятных чудес с отдельными вполне реальными бытовыми картинами. Одно
из таких сказаний о детстве Иисуса дошло до нас полностью. Автор его называет
себя Фомой, как и автор хенобоскионского евангелия, но, как уже указывалось,
ничего общего между этими двумя произведениями нет. Полное название апокрифа —
"Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа" (в научной
литературе его часто называют Евангелием детства). Оно представляет собой
рассказ о чудесах, совершенных Иисусом в возрасте от пяти до двенадцати лет.
Этот рассказ мало связан с раннехристианской традицией. Он — вольная
переработка народных сказок и мифов. Сам язык сказания близок к языку
фольклора. Проявилось в нем и некоторое, скорее всего внешнее, влияние
гностических писаний о магическом значении имен и знаков. Переплетение разных
преданий, отголоски различных, далеко не всегда связанных между собой учений
вообще свойственны такого рода полусказочным произведениям.
Главная задача сказания о детстве Иисуса — представить его всемогущим
божеством с самого рождения. Причем Иисус выступает в нем не как кроткий,
милосердный спаситель; подобно древним языческим божествам, Иисус в рассказе
Фомы бывает и мстительным, и жестоким, и капризным. Это можно подтвердить
несколькими эпизодами. Однажды в субботу маленький Иисус играл с другими детьми
на берегу реки. Он сделал на берегу ямки, наполнил их водой и стал лепить из
мокрой глины птичек. Один из иудеев, проходя мимо, рассердился на мальчика и
воскликнул: "Зачем ты делаешь в субботу то, что не положено?" Тогда
Иисус хлопнул в ладоши и закричал: "Летите!" И птицы полетели. На
этом чудеса не закончились. Один из мальчиков разбрызгал прутом воду из ямок.
Маленький Иисус в гневе сказал мальчику: "Ты высохнешь, как дерево, и не
принесешь ни листьев, ни корня, ни плодов". И мальчик сразу высох. В
другом эпизоде рассказывается, как Иисус шел по деревне, к нему подбежал
мальчик и ударил его. Иисус сказал ему: "Ты не двинешься дальше". И
мальчик упал мертвым. Родители погибших детей пошли жаловаться Иосифу. Когда же
тот стал выговаривать сыну за содеянное, Иисус ответил: "Ради тебя я буду
молчать, но они должны понести наказание". Те, кто жаловался на него,
ослепли.
Своенравие и жестокость, согласно этому сказанию Фомы, Иисус проявлял и в
годы учебы. Отец пригласил к нему учителя, который начал показывать ему буквы
греческого алфавита. Но Иисус не хотел заниматься. Он упорно молчал и не желал
отвечать на вопросы учителя. Наконец сам задал ему вопрос: "А что такое
альфа (название первой буквы греческого алфавита. — И. С.)?
Разъясни мне значение альфы, а я разъясню тебе значение беты (вторая буква
греческого алфавита. — И. С.)". Учитель, рассердившись, ударил
Иисуса по голове. Тогда Иисус проклял его, и учитель упал замертво. Конечно,
все эти акты жестокости не вяжутся с образом спасителя человечества,
провозгласившего: "Иго мое — благо, и бремя мое легко" (Мф.11:30). Но
для автора сказания о детстве жестокость богов казалась естественной и
неизбежной: сколько греческих мифов повествовало о наказании богами людей,
осмелившихся противоречить им или равнять себя с ними! Бывшие почитатели
античных божеств, став христианами, перенесли их черты на образ Христа. Таков
был противоречивый путь христианской религии; привлекая к себе все новых людей
обещанием спасения с помощью милосердного Иисуса, отдавшего свою жизнь ради
искупления грехов человечества, она впитывала в себя груз укоренившихся
суеверий, представлений, привычек.
Правда, в дальнейшее повествование вводятся чудеса исцеления и воскрешения:
Иисус воскресил мальчика, упавшего с крыши, когда родители последнего стали
обвинять Иисуса в том, что это он столкнул их сына. Иисус заставил воскресшего
ребенка свидетельствовать о своей невиновности. В этом евангелии рассказывается
также о том, как Иисус исцелил соседа, поранившего себя топором, и спас своего
брата Иакова, которого укусила змея. Когда другой учитель признал Иисуса
исполненным благости и мудрости, мальчик сказал, что ради него будет воскрешен
и тот первый учитель. Таким образом, сначала устрашив читателя, автор евангелия
затем показывает возможность милости, чуда исцеления. Он внушает, что за каждым
сверхъестественным деянием Иисуса — будь то возмездие или исцеление —
скрывается цель, недоступная для понимания простого смертного: проклятие должно
открыть путь к "высшей" истине, чтобы, как сказано в апокрифе,
"слепые в сердце своем узрели".
Почти все чудеса исцеления совершаются публично. Дважды Иисус говорит
исцеленным: "И помни обо мне" (добавление это отсутствует при
описании подобных сцен в канонических евангелиях). Совершаемые Иисусом чудеса
должны служить обращению неверующих, а призыв помнить о чуде и чудотворце
является как бы скрытым предостережением "забывчивым".
В Евангелие детства включены также рассказы о чудесах, которые призваны были
в наглядных образах раскрыть учение Иисуса или предвещать его будущие деяния.
Так, Иисус посылает лететь двенадцать воробьев — символ двенадцати апостолов;
посеяв в землю одно зерно, он собирает невиданный урожай — в этом виден образ
Иисуса — сеятеля веры.
Таким способом автор евангелия подчеркивает связь всего, что происходило с
Иисусом в детстве, с его дальнейшей жизнью. И читатели этого евангелия невольно
должны были переносить свое восприятие Иисуса как всемогущего божества на того
Иисуса, о котором рассказывалось в ранних евангелиях. Но на самом деле образ
Иисуса в Евангелии детства существенно отличается от его образа в
иудеохристианских и канонических писаниях. Характерно, что даже в тех эпизодах,
где вводится словоупотребление из новозаветных текстов, автор Евангелия детства
редактирует их, подгоняя под свою теологическую концепцию. К примеру, в
Евангелии от Луки свидетели чудес называют Иисуса "великим пророком"
(7:16); в Евангелии детства при аналогичных обстоятельствах люди, дивящиеся его
чудесам, называют его ангелом или богом, но ни разу — пророком. Ко времени
создания Евангелия детства образ Иисуса для христиан, особенно в грекоязычной
среде, все больше и больше терял человеческие черты; понятие пророка для
читателей, далеких от иудаизма, было лишено того смысла, которое оно имело для
первых последователей палестинского мессии.
Евангелие детства было написано для людей, далеких от реальных условий жизни
в Палестине; автор его вводит в повествование детали, понятные его читателям
(обучение греческой азбуке, например), называет одного из мальчиков греческим
именем. Эти детали должны были создать ощущение достоверности рассказа о
детстве Иисуса, заключить совершаемые им чудеса в рамку обыденности, что
порождало надежду у читателей Евангелия детства на такие же чудеса в реальной
жизни.
Мистическое значение букв греческого алфавита, о котором говорит Иисус,
наводит на мысль о влиянии в этой среде гностических трактатов. Составитель
сказания мог читать эти трактаты и перенести в свое произведение представление
о скрытом знании, доступном Иисусу, но не доступном простому смертному.
Не занимаясь с учителями, Иисус, согласно этому сказанию, проявлял тем не
менее невероятную ученость. Когда ему было двенадцать лет, родители взяли его с
собой в Иерусалим. Он не вернулся с ними домой, а отправился в храм и стал там
разъяснять "учителям народа и старшинам" (у автора не было,
по-видимому, вполне ясного представления, что это за "учителя и
старшины") закон иудейской религии. В основе этого эпизода лежит рассказ
из Евангелия от Луки о том, как двенадцатилетний Иисус отстал от родителей и
они нашли его в храме сидящим среди учителей (никаких "старшин" там
нет), слушающим их и отвечающим. По словам евангелиста, все дивились разуму и
ответам его. Автор сказания о детстве сильно приукрасил этот рассказ: Иисус не
слушает учителей и не беседует с ними, а поучает их. "Учителя народа и
старшины" не просто дивятся "его разуму", а говорят пришедшей за
Иисусом матери: "Такой славы, такой доблести и мудрости мы никогда не
видели и никогда о ней не слышали!" Автора этого сказания не интересует
вопрос о том, почему позже те же руководители иудеев будут испытывать к Иисусу
злобу и ненависть. Как и многие другие создатели христианских писаний, он
меньше всего думал о достоверности и логической последовательности своего
рассказа. Просто это предание отвечало его представлению об образе Иисуса, и он
стремился внушить данное представление другим верующим.
Фантастическими рассказами, подобными приведенным, наполнено все сказание о
детстве. У героя этого рассказа нет ничего общего с пророком эбионитов. Трудно
представить себе, чтобы мстительный божок, став взрослым, добровольно пошел на
мученическую смерть ради спасения человечества. Сказание Фомы о детстве Иисуса
представляет собой своеобразную смесь народных преданий, сказочных мотивов с
вульгаризованным учением гностиков об истинном знании, которое логос помогает
открыть людям и которому нельзя научиться обычным путем. Но как перевернута в
этом произведении философия гностиков! Непостижимость Иисуса, присущее ему
"истинное знание" делают его грозным божеством и снова вносят в
сердца людей страх и неуверенность, от которых стремился освободить своих
единомышленников автор Евангелия Истины.
СКАЗАНИЯ О МАРИИ
Первые христиане мало внимания уделяли матери Иисуса — Марии. Эбиониты,
учившие, что святой дух снизошел на человека Иисуса во время крещения, считали
его мать обыкновенной женщиной, женой плотника Иосифа. В писаниях гностиков имя
Мария упоминается довольно часто, но, как правило, речь идет об ученице Иисуса
— Марии Магдалине. Мария — мать Иисуса сама по себе существенного значения в их
учениях не имела. У гностиков существовала версия рождения Христа, по которой
сам Иисус-логос явился к ней в виде архангела Гавриила. В Евангелии Филиппа
обыгрывается тот факт, что мать Иисуса, его сестра и Мария Магдалина носили
одно и то же имя: "Ибо Мария — его мать, его сестра и его спутница".
Здесь Филипп рассматривает это совпадение как выражение гностической идеи о
единстве во множестве. Биография Марии, ее земная жизнь гностиков не интересовала.
В Новом завете Мария тоже не занимает сколько-нибудь важного места. Правда,
женщина, рождающая в муках дитя, предстает в видениях Откровения Иоанна, но
ничего человеческого в ней нет: "Жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала
от болей и мук рождения". Женщину эту преследует дракон, который хочет
вступить в борьбу "с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди божий и
имеющими свидетельство Иисуса Христа". Описание "жены, облеченной в солнце",
как и остальных видений в Апокалипсисе, представляет собой аллегорию, которая
нуждается в толковании, в постижении ее скрытого смысла; эта "жена"
так же далека от реальной женщины, как блудница, сидящая на семиголовом звере,
— от реальной столицы империи. Нет следов почитания матери Иисуса и в посланиях
Павла.
В самом раннем из канонических евангелий, Евангелии от Марка, описание
рождения Иисуса отсутствует; рассказ о нем начинается с прихода Иисуса из
Галилеи и крещения его Иоанном. Поскольку автор этого евангелия не интересуется
рождением Иисуса, то и о матери его он упоминает редко и вскользь.
В евангелиях от Матфея и от Луки приводятся родословные отца Иисуса —
Иосифа: его род возводится к царю Давиду. Появление в евангелиях этих
генеалогий, отличных одна от другой, было связано с устной традицией,
считавшей, что Иисус принадлежит к роду Давида, из которого, согласно иудейским
верованиям, и должен происходить помазанник божий — мессия. Когда складывались
легенды о предках Иосифа, последний, естественно, должен был считаться родным
отцом Иисуса и, следовательно, никаких особых заслуг его матери не
приписывалось. Однако в тех же евангелиях отражена и начавшая складываться в
период их создания легенда о непорочном зачатии Марией Иисуса, об его рождении
от духа святого. В связи с появлением этой легенды в христианской традиции
начинает выделяться образ матери Иисуса.
В Евангелии от Матфея рассказы о непорочном зачатии менее подробны, чем в
Евангелии от Луки, который вводит описание благовещения, т. е. того, как к
Марии явился ангел и объявил, что она зачнет от святого духа. Но о дальнейшей
жизни Марии — в период проповеди Иисуса, во время суда над ним и после его
казни — в первых трех евангелиях Нового завета ничего не сказано. Мать Иисуса
даже не названа среди присутствовавших при распятии. Только в Евангелии от
Иоанна Мария, мать Иисуса, оказывается у креста и Иисус поручает ее своему
любимому ученику (т. е. Иоанну, от имени которого написано четвертое
евангелие). В Деяниях апостолов Мария, мать Иисуса, упомянута пребывающей в
молитве после казни Христа вместе с учениками и братьями его (1:14). Вот и все
сведения о Марии, содержащиеся в каноне. Такое отношение к ней не случайно:
ведь в проповедях ранних христиан звучали призывы отречься от родных, заменить
братство по крови братством по вере. Достаточно вспомнить эпизод, приведенный в
первых трех новозаветных евангелиях. Когда Иисусу сказали, что мать и братья
зовут его, он ответил: "Кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих
вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои..." (Мк.3:33-34; Мф.1:16;
Лк.8:19). Аналогичное речение содержится и в хенобоскионском Евангелии Фомы.
Отсутствие в раннехристианской традиции четких сведений о матери Иисуса
привело к тому, что противники нового учения, прежде всего из иудеев,
распространяли свою версию ее биографии. Эта версия приведена у Цельса.
Ссылаясь на рассказы иудеев, Цельс пишет, что Мария была пряхой, которая родила
сына от беглого римского солдата. Такой рассказ ставил своей целью скомпрометировать
и Марию, и ее незаконного сына. Были ли хоть какие-нибудь исторические
основания для него, мы сейчас сказать не можем.
Невзирая на скудость сведений о матери Христа в произведениях Нового завета,
церковь установила в ее честь целый ряд праздников: рождество богородицы,
введение во храм, успение. События, по поводу которых установлены эти церковные
праздники, освещены не в канонических текстах, а в произведениях, официально не
признанных священными.
В конце II в., когда появились сказания, повествующие о детстве Иисуса,
начали распространяться и различные фантастические рассказы о его матери, где
она рисовалась существом необыкновенным. Тяга к сверхъестественному, традиция
почитания женских божеств, уходящая корнями в глубокую древность, сказались на христианском
восприятии образа богородицы.
В сказаниях о Марии, появившихся как дополнение к ранним евангелиям, прежде
всего описывались ее детские и девичьи годы. В этих сказаниях Мария с самого
начала выступает избранницей божией. Наиболее подробный рассказ о детстве Марии
содержится в так называемом Евангелии Иакова, или "Истории Иакова о
рождении Марии". Интересно отметить, что Мария, согласно этому сказанию,
происходит из рода Давида. Автор его пытался таким путем снять ощущавшееся
самими христианами противоречие между верой в непорочное зачатие и верой в
происхождение Иисуса от потомков царя Давида, соединить две различные и
разновременные традиции. Евангелие (в научной литературе его иногда называют
"протоевангелие") Иакова начинается с описания того, как будущие
родители Марии, престарелые Иоаким и Анна, скорбят о своей бездетности. Иоаким
удаляется в пустыню пасти стада, а жена его молит бога послать ей ребенка.
Наконец появляется ангел, возвещающий, что у Анны родится дочь. Родители дают
обет посвятить дочь богу. Когда Марии минуло три года, Иоаким во исполнение
обета отвел дочь в Иерусалимский храм, чтобы она там воспитывалась. На этом
эпизоде и основан праздник введения во храм. В храме Мария оставалась до
двенадцати лет. Интересно отметить, что Мария, по этому сказанию, не питалась
обычной пищей, ангелы приносили ей пищу небесную. Здесь опять, как и в сказании
о детстве Иисуса, мы видим переплетение отголосков гностических учений с
древними языческими верованиями. Мы уже говорили о том, что виднейший идеолог
гностического христианства Валентин писал о том, что Иисус "ел и пил
особым образом". Как здесь не вспомнить, что боги древних греков тоже пили
особый напиток — нектар и питались особой пищей — амброзией. Низведенные с
философских высот доктрины гностиков переосмысливались в традиционно-сказочном
духе и способствовали появлению в христианской мифологии новых фантастических
деталей.
Когда Марии исполнилось двенадцать лет, повествуется в Евангелии Иакова,
жрецы храма по велению ангела созывают вдовцов, чтобы выбрать среди них
хранителя (опекуна) Марии. Когда старики-вдовцы собрались, из посоха, с которым
пришел плотник Иосиф, вылетела голубка и села ему на голову. Марию вручили
Иосифу, чтобы он охранял ее девственность.
Далее в Евангелии Иакова рассказывается о том, как Иосиф обнаружил
беременность Марии, как их вызвали в храм и заставили пройти испытание
"водою ревности". Это был древний обычай, восходивший еще к
первобытным временам: людям, подозревавшимся в прелюбодеянии, давали выпить
воду, смешанную с грязью. Если они без болезненных последствий проглатывали
отвратительную жижу, то объявлялись невиновными. Естественно, в сказании Иакова
Иосиф и Мария легко проходят через это испытание.
Заканчивается сказание описанием рождения Иисуса. В основу его положены
соответствующие места из евангелий от Матфея и от Луки, но с некоторыми
добавлениями. У Иакова в этот эпизод введен еще один персонаж: к только что
родившей в пещере Марии приходит женщина по имени Саломея, которая хочет
удостовериться в ее девственности. В наказание за неверие у Саломеи отсыхает
рука. Появившиеся ангелы приказывают раскаявшейся Саломее коснуться
новорожденного. Она берет его на руки и тут же исцеляется. В Евангелии Иакова,
как и в сказании о детстве, сверхъестественные свойства Иисуса проявляются,
таким образом, с самого его рождения. Саломея упоминается в числе женщин,
присутствовавших при казни Иисуса, в Евангелии от Марка (15:40; 16:1). Кто
такая Саломея — в каноне не объясняется. Этот персонаж фигурирует и в
гностических произведениях. Согласно хенобоскионскому Евангелию Фомы, Саломея
объявила себя ученицей Иисуса. Автор Евангелия Иакова, стремясь расцветить свой
рассказ различными чудесами, использовал это имя в эпизоде рождения Иисуса,
которое свершается в пещере.
История Марии кончается рассказом о том, как она прячет младенца Иисуса от
преследования Ирода в яслях для скота. Автор использовал здесь образ яслей,
столь близкий первым христианам из низов общества, но в другом контексте, чем в
Евангелии от Луки (у Луки Иисус рождается в яслях). В дошедших до нас рукописях
после этого рассказа следует повествование о гибели Захарии — отца Иоанна
Крестителя. Ирод приказал его убить за то, что тот отказался выдать ему
младенца Иоанна. Это повествование явно взято из разных рассказов об Иоанне и к
истории Марии отношения не имеет.
Оба евангелия — Фомы о детстве Иисуса и Иакова о детстве и юности Марии —
представляют собой удивительное смешение разных христианских учений, преданий,
равно как и привнесенных в христианство представлений о древних, главным
образом античных, божествах. Создание этих евангелий во второй половине II в.
показывает, что многим рядовым верующим были чужды догматические споры
гностического и ортодоксального направления, что они почитали книги, созданные
различными, часто враждебными друг другу, теоретиками и богословами, по-своему
осмысляя их и приспосабливая к своему восприятию христианства.
Популярность "Истории Иакова о рождении Марии" подтверждается тем,
что она дошла до нас и на греческом, и на сирийском языке. Кроме того,
существовали эфиопская, армянская, коптская, арабская и славянская переработки
этой "Истории". Церковь не признавала сказание Иакова каноническим:
оно явно было написано позже четырех евангелий Нового завета и слишком вольно передавало
рассказ о рождении Иисуса. Но оно не было отнесено и к числу
"отрешенных", т. е. категорически запрещенных книг. Церковь не
препятствовала его распространению, как и сказания Фомы о детстве Иисуса.
В сказании Иакова Мария с момента ее появления на свет выступает избранницей
божией, благочестивой и целомудренной, но она еще не воспринимается как
божество. О конце ее жизни ни в этом сказании, ни в других христианских
произведениях вплоть до конца IV в. ничего не было сказано. В конце II в. Мария
еще не сталa самостоятельной фигурой в системе христианских догматов. Но чем
шире распространялось христианство, чем больше оно включало в себя традиционных
обычаев и верований, тем больше "божественных" черт появлялось в
образе Марии. Вряд ли в Римской империи можно было найти область, где в той или
иной форме не почиталось бы женское божество — богиня-мать, богиня плодородия.
В Греции это была Деметра, в Малой Азии — Кибела, в Египте — Исида. Потребность
в культе женского божества, в поклонении матери, защитнице и помощнице
оставалась у людей, перешедших от почитания Исиды или Деметры к почитанию
Иисуса. И вероятно, чем меньше человеческих черт оставалось в образе Иисуса,
чем больше он превращался в недоступного и даже грозного бога, тем острее
становилась эта потребность. Мария сливалась в представлениях верующих с
могущественными и добрыми древними "матерями богов".
Обожествление Марии далеко не сразу было принято христианской церковью. Еще
в IV в. между отдельными группами христиан шла борьба по вопросу о том,
как относиться к культу девы Марии. Епископ кипрский Епифаний, живший в
середине IV в., в сочинении "Панарион" осуждал тех почитателей
Марии, которые "стараются ставить ее вместо бога и говорят о ней,
увлеченные каким-то безумием и умоповреждением". Епифаний, выражая мнение
ряда церковных руководителей, писал, что Мария не должна быть предметом
поклонения, не следует делать ее богом: "В чести да будет Мария, но
поклоняться должно отцу и сыну и святому духу". В доказательство того, что
Мария не является основным лицом в христианском культе, Епифаний ссылается на
то, что в "священном писании" нет никаких сведений ни о смерти, ни о
погребении Марии.
Только в конце IV в. появилось сочинение анонимного автора "Об
успении Марии". В нем как раз и рассказывается о последних годах жизни
матери Иисуса, ее смерти и вознесении на небо. Имея возможность не следовать
раннехристианской традиции (ибо ее, как мы уже говорили, в отношении матери
Иисуса почти не существовало), автор использовал самые разные предания, дав
полную волю своему воображению. Основываясь на беглом упоминании в Деяниях
апостолов, он рассказывает, что Мария некоторое время жила в Иерусалиме вместе
с Иоанном (которому, согласно Евангелию от Иоанна, поручил ее Иисус перед своей
смертью). Затем она переселилась в малоазийский город Эфес, где занималась
проповедью христианства. Перед смертью она снова вернулась в Иерусалим. Смерть
ее (по христианской терминологии — успение) сопровождалась различными чудесами:
сам Иисус в окружении множества ангелов спустился на сверкающем облаке и принял
ее душу. К моменту смерти Марии в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме Фомы.
Они и похоронили ее. На третий день после ее смерти в Иерусалим пришел Фома и
захотел посмотреть на тело умершей. Апостолы по его просьбе открыли гроб, но он
оказался пустым. Вечером, когда ученики Иисуса, собравшись все вместе,
обсуждали это событие, "отверзлись небеса" и там показалась Мария.
Как и ее сын, она воскресла в своем человеческом облике.
Нетрудно заметить, что автор сказания "Об успении Марии"
использует евангельские рассказы о воскресении Иисуса, перенося их на его мать.
По-видимому, самостоятельных преданий о смерти Марии не существовало; кроме
того, повторение "воскресения" как бы ставило Марию в один ряд с
Иисусом, подчеркивало ее божественность в отличие от остальных, пусть самых
святых и праведных, проповедников христианства.
В IV—V вв. устанавливается культ Марии. К ней начинают применять
названия "богородица" и "богоматерь" — выражения,
восходящие к наименованию древних языческих богинь (например, великая матерь
богов Кибела). Впервые Мария названа так в трудах епископа города Никомедии
Евсевия около середины IV в. Но окончательно Мария была признана
богоматерью только в 431 г. на соборе в городе Эфесе, созванном по решению
императора Восточной Римской империи Феодосия II. Не случайно прежде всего
в восточных районах утверждается культ богоматери: на нее были перенесены
многие черты и функции, которыми наделяло население этих районов древних
богинь-матерей. Центром почитания Марии стал малоазийский город Эфес, издавна
известный своим храмом в честь богини Артемиды, воспринимавшейся там как богиня
плодородия.
Праздники же в честь богородицы введены церковью еще позднее. Они были
приурочены к местным языческим праздникам. Рождество богородицы впервые стало
отмечаться в VI в., успение — с конца V в. Первое совпадало с началом
нового года (на Востоке год начинался с сентября), а успение — с празднованием
сирийскими крестьянами окончания уборки урожая.
Апокрифические сказания о Марии, пожалуй, наиболee ярко отражают тот путь,
который прошли христианские верования за три первые века своего существования.
Вряд ли ранние христиане, накликáвшие кары на всех, кто почитает идолов,
могли представить себе, что когда-нибудь их единомышленники будут поклоняться
статуям богородицы. Христианство впитало в себя наиболее стойкие древние
религиозные представления, приспособило их к основным положениям своего учения,
но и само приспособилось к ним. Недаром один из исследователей раннего
христианства писал, что культ древней богини-матери "снова ожил в культе
Марии, переменив только имя и получив христианскую окраску"[32].
Отсутствие в первоначальном христианстве единого учения, многочисленность
борющихся друг с другом направлений, обилие "священных" книг,
по-разному, трактующих основные христианские положения и догматы, — все это
облегчало проникновение древних верований в новую религию, создание разных
легенд и мифов. Некоторые из этих мифов так и остались достоянием "тайных
писаний", другие в той или иной степени были признаны официальной церковью
и послужили основанием для установления многих христианских праздников.
ОПРАВДАНИЕ ПОНТИЯ ПИЛАТА
Если сказания о детстве Иисуса и о жизни его матери явились своеобразным
результатом взаимодействия христианства и "языческих" верований, то
группа апокрифов, связанная с именем Понтия Пилата, отражала приспособление
новой религии к существующему общественному строю и государству. Мы уже
говорили о том, что образ Пилата по-разному трактовался в новозаветных и
апокрифических евангелиях начала II в., но в этих произведениях прокуратор
Иудеи не играл основной роли, поскольку главной задачей евангелий было описание
страстей и воскресения Иисуса. Однако в христианской пропаганде II—IV вв.
отношение к римскому чиновнику было слишком важным вопросом, чтобы можно было
ограничиться тем, что рассказывали о нем ранние евангелия. Защищая свое учение
перед императорами, а затем и подготовляя союз с ними, многие руководители
христианских общин стремились снять всякую вину за смерть Иисуса с
представителя римской администрации. Пассивность Пилата в решении судьбы Христа
(вспомним образ Пилата в Евангелии Петра и отчасти в канонических евангелиях)
не соответствовала идее этого союза. Кроме этого, чисто политического, аспекта
превращение Христа из иудейского мессии в мировое божество должно было породить
в умах верующих представление о признании его римлянами, как и всеми, кто с ним
общался (за исключением "ослепленных" иудеев).
В течение II—IV вв. среди христиан получили распространение писания,
которые ставили своей целью показать сочувствие Пилата Иисусу, подробно описать
его отношение к основателю христианства. В конце II — начале III в. имело
хождение поддельное донесение Пилата императору Тиберию (до нас оно не дошло),
где описывался процесс над Иисусом, а позднее было создано "Письмо Пилата
императору Клавдию". Правда, Клавдий царствовал уже после того, как Пилат
за свою жестокость был отстранен от должности прокуратора. Но создателей этого
письма, как и многих других религиозных писателей того времени, подлинная
хронология не интересовала. Все письмо написано в христианском духе. В нем
Пилат коротко пересказывает христианскую легенду, называет Иисуса посланником
бога, предсказанным пророками. Последнее весьма любопытно. Люди, жившие в
условиях Римской империи, даже если они были фанатично верующими христианами,
не могли не знать, что прокуратор в донесении своему владыке не мог ссылаться
на авторитет библейских пророков. Но дело в том, что авторы подобных писаний не
стремились придать достоверность описываемому. Они писали о том, что, с их
точки зрения, должно было быть, выдавая желаемое за действительное.
Главная вина за казнь Иисуса, как и следовало ожидать, возлагается в этом
письме на иудеев: "Иудеи видели, как он слепых делал зрячими, прокаженных
— чистыми, как он врачевал расслабленных, изгонял из людей демонов, воскрешал
даже мертвых, повелевал ветрами, шествовал сухими ногами по волнам морским и
совершил много чудесных знамений (здесь перечислены чудеса Иисуса, которые
упоминаются в четырех новозаветных евангелиях. — И. С.). И так как
народ иудейский называл его сыном божиим, то возненавидели его иудейские
первосвященники, схватили его и предали его мне. Измышляя ложь на ложь, они
сказали, что он волшебник и поступает против их закона"[33]. Интересно отметить, что среди обвинений, возведенных
на Иисуса первосвященниками, в письме не упомянуты те, которые затрагивали бы
римлян, в частности нет обвинения в том, что Иисус претендовал на роль "царя
иудейского". Эта деталь была сознательно опущена, а весь конфликт сведен к
ненависти первосвященников к Иисусу. Далее в письме сказано, что Пилат отдал
Иисуса "на усмотрение" иудеев. Решение его не аргументировано, о нем
упоминается в одной фразе. Трудно было найти реальное оправдание такому
действию, но автор и не пытался сделать это. Ему было важно показать, что
римский прокуратор признал в Иисусе сына божия. По словам автора этого апокрифа,
после воскресения Иисуса иудеи подкупили стражу, чтобы та обвинила учеников
Иисуса в похищении его тела, — мотив уже знакомый нам по Евангелию Петра.
Однако римские легионеры не поддались на уговоры, они "не могли
молчать" и открыто свидетельствовали о воскресении. Кончается
письмо-донесение словами: "Я доношу тебе обо всем этом, чтобы не
распространилась какая-либо ложь и чтобы ты не подумал, что следует верить
лживым иудеям".
"Письмо Пилата Клавдию" было не единственным сочинением, которое
дополняло новозаветную версию суда над Иисусом. Вероятно, в III в. было
создано и так называемое Евангелие Никодима, которое дошло до нас в более
позднем латинском переводе. Это евангелие состоит из двух непосредственно не
связанных друг с другом частей: первая часть называется "Воспоминание о
господе нашем Иисусе Христе и его деяниях, имевших место при Понтии
Пилате", вторая — "Сошествие Христа в ад". В этой последней
части приводится совершенно фантастический рассказ о путешествии Иисуса в ад, где
он схватил Сатану и приказал заковать его в цепи. Вероятно, первоначально это
были два самостоятельных произведения, которые объединил какой-нибудь
переписчик. Но возможно, объединение это не случайно: обе части, при всей их
внутренней несвязанности, отражают общий подход к образу Иисуса. Он предстает в
Евангелии Никодима фигурой совершенно фантастической, а в деятельности его
главное место занимают теперь не проповеди, а совершение самых невероятных
чудес. Для стиля писаний, включенных в Евангелие Никодима, характерны преувеличения,
цветистые обороты, рассчитанные на легковерных читателей.
В первой части этого сочинения содержится гораздо более подробный, чем в
Новом завете, рассказ о суде над Иисусом. Основное внимание уделено допросу
Иисуса Пилатом. Автор старательно подчеркивает, что прокуратор Иудеи был
настроен по отношению к Иисусу чрезвычайно доброжелательно. Он дал возможность
высказаться всем людям, которые защищали обвиняемого. Иудеи, слушая этих
свидетелей, "гневались и скрежетали зубами". Слыша это, Пилат говорил
им: "Что вы скрежещете зубами, услышав правду?" Из этого рассказа
остается неясным, почему же все-таки, будучи уверенным в невиновности Иисуса,
Пилат не использовал своей власти и не отпустил его. Как и автор "Письма
Пилата к Клавдию", автор Евангелия Никодима не останавливался на этом
вопросе, зато он постарался как можно ярче описать неистовство иудеев.
Кульминационным пунктом в рассказе Никодима является описание главного чуда,
происшедшего во время суда: когда Иисуса вели на допрос, знамена, которые держали
римские легионеры, согнулись и поклонились ему. Рассказ этот варьируется и
расцвечивается: знамена кланяются и тогда, когда сами иудеи берутся их держать.
Итак, не только римский прокуратор сочувствовал Иисусу, но и римские военные
знамена склонились перед ним. Следовательно, Иисус как божество был признан
римлянами еще во время его проповеди. Естественно, что римский император также
рано или поздно должен признать христианство, а христиане в свою очередь должны
признать власть императоров: ведь представитель одного из них стремился
защитить Иисуса от "скрежетавших зубами" иудеев. Вот логический
вывод, к которому подводило читателей Евангелие Никодима.
Характерной чертой всех поздних сказаний типа Евангелия Никодима было
отсутствие в них этических и догматических положений. Они одинаково далеки и от
мистической философии гностиков, и от призывов помогать беднякам, столь ярко
выраженных в апокрифах иудеохристиан. Эти произведения никого не утешают и
ничего не обещают: ни царства божия на земле, ни слияния с логосом. Они
представляют собой крайнюю вульгаризацию христианства. Их читателями были
новообращенные, не слишком образованные люди из городских предместий и
деревень, для которых Иисус был не спасителем несчастных, а грозным божеством,
способным совершать любые чудеса и жестоко карать непослушных. Антииудейские
настроения, выраженные в Евангелии Никодима, не были связаны с конкретной
исторической обстановкой ни в империи, ни внутри христианства. Они были
проявлением общего христианского фанатизма, того самого фанатизма, который
приводил к уничтожению произведений античного искусства, преследованию науки,
разрушению древних храмов. Усилившаяся, а затем и победившая церковь
преследовала всех нехристиан.
Разумеется, эти писания не могли быть признаны церковью боговдохновенными:
они были созданы намного позже новозаветной литературы, расходились с древней
традицией во многих деталях и, наконец, не содержали этических поучений, т. е.
не определяли норм поведения людей, что было важно и для самих верующих, и для
руководителей церкви. Но читать подобные произведения не запрещалось. После
признания христианства государственной религией распространилось много
сказаний, посвященных разным евангельским персонажам, где переплетались отзвуки
древней христианской традиции с языческими мифами и сюжетами античной
литературы.
Апокрифы конца II — IV вв., хотя и не были объявлены священными,
наложили свой отпечаток на христианскую догматику. Эти апокрифы наглядно
показывают нам тот долгий и сложный путь, который прошло христианство от первых
экклесий, малочисленных и гонимых, до могущественной организации, грозившей
самым тяжким наказанием всем, кто ей не подчинялся. Они свидетельствуют о том,
что евангелия продолжали создаваться на всем протяжении периода раннего христианства,
вплоть до утверждения канона в V в., и что христианская традиция,
отраженная в этих евангелиях, в IV в. была еще более разнообразной и
противоречивой, чем традиция конца I — II вв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя не признанны ецерковью христианские книги, мы убедились в том,
что единого, стройного христианского учения никогда не существовало, что
христиане непрерывно спорили друг с другом по вопросам догматики, этики,
обрядности и даже по отдельным "фактам биографии" Иисуса.
Подводя итоги, можно выделить несколько наиболее важных для христиан
вопросов, по которым существовали серьезные расхождения. Прежде всего, это
относится к образу самого основателя нового учения. Он почитался одними (и
притом самыми ранними) группами христиан как пророк, другими — как богочеловек,
третьими — как предвечно существующий логос. Знаменательны и расхождения между
разными группами христиан по вопросу о сущности царства божия. У первых
христиан, как это видно из речения об изобилии, приведенного у Папия, из
папирусного логия о воскресении мертвых, из Откровения Иоанна, существовало
убеждение в том, что второе пришествие близко и, когда оно свершится, на земле
установится царство добра и справедливости. В наиболее раннем из новозаветных
евангелий, Евангелии от Марка, представление о вознаграждении на земле еще
сохраняется. Но затем "царство божие" заменяется "царствием
небесным" (Евангелие от Матфея), появляются первые описания потустороннего
рая и ада (Апокалипсис Петра). Гностики идут еще дальше: они вообще отвергают
идею воздаяния. Царство божие для них "вне и внутри" человека, а
единственно возможное спасение — слияние индивида с этим духовным царством.
Подобные гностические идеи получили отражение и в Новом завете. В Евангелии от
Иоанна содержится знаменательная фраза: "Царство мое не от мира сего" (18:36).
По-разному решали христиане I—IV вв. и проблему отношений с окружающим
миром, вопросы этики. Здесь диапазон расхождений был особенно широк — от
крайнего аскетизма ряда христианских групп (монтанисты, сторонники Маркиона и др.)
до моральной распущенности некоторых последователей гностических учений. Частью
христианской этики выступало отношение к бедности и богатству. Отрицательное
отношение к богатству, выраженное в Евангелии евреев, Учении двенадцати
апостолов (Дидахе), некоторых ранних речениях, дошедших до нас в
хенобоскионском Евангелии Фомы, сменяется со временем требованием
благотворительности, учением о взаимной необходимости бедных и богатых (четко
обоснованным в "Пастыре" Гермы), а в произведениях более поздних
церковных писателей (например, у Иринея) и прямым оправданием существования
богатства. У авторов новозаветных книг отношение к богатству различно, но для
большинства из них бедные — богатые всего лишь одна из антитез окружающего
христиан общества наряду с благополучными — несчастными, здоровыми — калеками и
т. п. Для гностиков бедность и богатство выступали как часть еще более
общего мирового разделения на противоположности, включавшего и разделение на
мужское и женское, левое и правое.
Разумеется, расхождения между отдельными христианскими группами не
исчерпывались вышеприведенными вопросами. Мы отметили только наиболее
существенные линии этих расхождений.
Но хотя среди сторонников новой религии шла непрерывная борьба различных
направлений, четкого разграничения между ними не было. Эти направления
взаимопроникали и влияли друг на друга. Христиане имели возможность читать
произведения, созданные в самых разных христианских общинах. Такое положение
существовало вплоть до выработки победившей ортодоксальной церковью списка
"отрешенных" книг. Именно поэтому в произведениях Нового завета можно
увидеть и следы влияния иудеохристианства, и идеи гностиков. Во II—III вв.
защитники христианства, его идеологи и богословы использовали всю эту
литературу в своих сочинениях, не только споря с ней, но и ссылаясь на ее
авторитет.
Апокрифические писания содержат христианскую традицию, которая не
переставала развиваться и меняться на протяжении трех первых веков
существования новой религии. Эта традиция отражала взгляды, интересы, чаяния
разных слоев общества, среди которых распространялось христианское учение. Она
впитывала в себя черты иудейского мессианизма, восточных, особенно египетских,
культов, греко-римской идеалистической философии.
Христианство создавалось людьми, которые стремились найти иллюзорный выход
из того социально-психологического тупика, в который зашло античное общество и
античная идеология. Обилие же направлений в раннем христианстве, острота споров
между их приверженцами свидетельствуют о том, что ни одно из этих направлений
не могло удовлетворить всех духовных потребностей населения Римской империи.
Ортодоксальная церковь победила потому, что она сумела приспособиться к
реальной жизни, принять существующий порядок (и даже оправдать его) и получить
в конце концов поддержку государственной власти. Но эта победа не была полной:
на протяжении всего средневековья в разнообразных религиозных движениях,
которые церковь называла еретическими, развивались идеи, высказанные отдельными
христианскими группами во II—III вв.
Изучение писаний, которые церковь называет тайными и подложными, но которые
на самом деле почитались в начале нашей эры значительным числом
верующих-христиан, позволяет восстановить подлинную историю раннего
христианства, понять, как создавались его "священные" книги.
[1] Из научно-популярных книг,
где разбираются тексты Нового завета, можно, в частности, указать:
Ленцман Я. А. Сравнивая евангелия. М., 1967;
Кубланов М. М. Новый завет. Поиски и находки;
Косидовский 3. Сказания евангелистов;
Козаржевский А. Ч. Источниковедческие проблемы
раннехристианской литературы, М., 1985.
[2] Ни Лука, ни Марк, согласно
христианской традиции, не были непосредственными учениками Иисуса и не
считаются церковью апостолами. Лука, по преданию, был спутником апостола Павла,
Марк — Петра.
[3] Коптский язык — язык
населения египта, развившийся из древнеегипетского.
[4] Не все послания, автором
которых назван Павел, в действительности принадлежали этому христианскому
деятелю. К подлинным посланиям обычно относят Послание к римлянам, оба послания
к коринфянам, Послание к галатам. Некоторые исследователи присоединяют к ним
Послание к филиппийцам, Первое послание к фессалоникпйцам и Первое послание к
Филимону (см.: Кубланов М. М. Новый завет. Поиски и находки,
с. 109—110). Наиболее ранние послания отражают положение в христианских
общинах перед первым иудейским восстанием.
[5] См.:
Козаржевский Л. Ч. Источниковедческие проблемы
раннехристианской литературы, с. 56 и сл.
[6] Евангелия от Матфея, от
Луки и от Марка в силу своего внутреннего сходства называются в науке
синоптическими, а к авторам их иногда применяется выражение
"синоптики". От синоптических евангелий и по содержанию и по стилю
существенно отличается четвертое евангелие Нового завета — Евангелие от
Иоанна.
[7] Рассказ Папия приведен в
книге епископа II в. Иринея "Против ересей".
[8] Переводы неканонических
речений и отрывков из апокрифических евангелии, приведенных ниже, сделаны по
изданию: Preuschen E. Antilegomena. Gieszen, 1905.
Использованы также переводы и комментарии из книги: Hennecke E. New
Testament Apocrypha. L., 1963. На русском языке переводы отдельных логиев
можно найти в работе С. А. Жебелева "Евангелия канонические и
апокрифические" (Пг., 1919).
[9] См., например, Евангелие от
Марка (10:23): "Как трудно имеющим богатство войти в царствие божие";
Евангелие от Матфея (19:23): "Трудно богатому войти в царствие
небесное".
[10] Семитские языки —
языковая семья, включающая многие древние (в том числе древнееврейский и
арамейский) и современные (например, арабский) языки.
[11] Во Втором послании Петра
разъясняется, что срок второго пришествия неизвестен; там сказано: "Не
медлит господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленном; но
долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию" (3:9). В этом же послании упоминаются люди, сомневающиеся в
возможности пришествия. Их автор письма называет "наглыми
ругателями".
[12] Учение эбионитов
изложено в так называемых "Псевдоклиментинах" — произведении,
написанном в конце II в. Автор его неизвестен. Христиане приписывали эти
сочинения легендарному епископу Рима Клименту.
[13] Евсевий в
"Церковной истории" говорит, что эбиониты пользовались Евангелием
евреев.
[14] В древнегреческом языке
слова "верблюд" (камелос) и "канат" (камилос) различались
только одной буквой. "Игольным ушком" называли узкую дверцу в
Иерусалимском храме.
[15] Если в первоначальной
христианской традиции слово "нищие" (бедняки), вероятно, означало
"эбиониты" и было самоназванием христиан, то затем, по мере
расширения этнического и социального состава христианских общин, это слово
стало восприниматься в своем прямом значении.
[16] Иаков, брат Иисуса,
упоминается и у Иосифа Флавия, который сообщает, что иудейский первосвященник
казнил "брата Иисуса, называемого Христом, по имени Иаков, равно как и
несколько других лиц" (Иудейские древности, XX, 9, 1). В
Послании Павла к галатам (1:18-19) автор его говорит, что он видел в Иерусалиме
"Иакова, брата господня".
[17] Династия римских
императоров, правившая с 98 по 192 г.
[18] Перевод Апокалипсиса
Петра на русский язык дан в книге А. Б. Рановича "Первоисточники
по истории раннего христианства".
[19] Ф. Энгельс в своей
работе "К истории первоначального христианства" (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 22) подробно рассматривает вопросы хронологии
Откровения Иоанна. На основе тщательного анализа текста, используя достижения
библейской критики, он датировал это произведение 68—69 гг.
[20] Некоторые ученые,
например, Р. Ю. Виппер, считают, что "Пастырь" Гермы
написан в I в. в среде иудейских предшественников христианства. Но
большинство исследователей, исходя из свидетельства "Канона Муратори"
и из содержания книги, относят "Пастыря" ко II в. Перевод
"Пастыря" на русский язык помещен в книге "Памятники древней
христианской письменности" (М., 1860, т. 2).
[21] В канонических
евангелиях рассказывается о том что некий хозяин на время своего отсутствия
отдал виноградник виноградарям, а возвратившись, пожелал получить с них часть
урожая; они же не захотели ничего отдать и убили сначала слуг, а потом сына
хозяина. Здесь Иисус подразумевается под сыном хозяина. Притча направлена
против тех, кто отвергает его учение (Мк.12:1-9; Мф.21:33-41; Лк.20:9-16).
[22] Так например, греческий
писатель Евгемер объяснял существование веры в богов тем, что некогда это были
добродетельные люди, герои; в благодарность за их деятельность потомки чтят их
и воздают им божественные почести.
[23] В конечном счете —
Ред.
[24]
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330.
[25] Проблемы гностицизма и
его изучения рассмотрены в книге М. К. Трофимовой
"Историко-философские вопросы гностицизма".
[26] Душевные — те, кто
обладают не только физическими ощущениями, но и душой как совокупностью эмоций
(они способны испытывать любовь, чувство дружбы и т. п.).
[27] Этот отрывок приведен у
Климента Александрийского.
[28] Фригия — одна из
областей Малой Азии, входила в римскую провинцию Азия.
[29] Мемфис — город в Древнем
Египте.
[30] Это евангелие в переводе
М. К. Трофимовой опубликовано в книге "Историко-философские
вопросы гностицизма", с. 160—170.
[31] Подробное сопоставление
этих текстов сделано в книге Е. М. Штаермана и
М. К. Трофимовой "Рабовладельческие отношения в ранней Римской
империи" (М., 1971, с. 277—279).
[32] Древс А. Миф
о деве Марии. М., 1929, с. 93.
[33] Цитаты здесь и далее
даны в переводе С. А. Жебелева. См.: Жебелев С. А.
Евангелия канонические и апокрифические, с. 96.
|
|
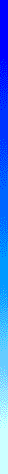
|

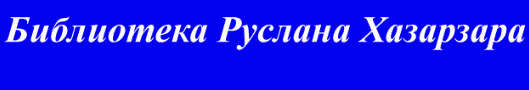

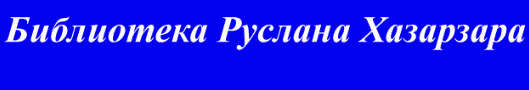
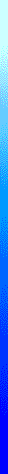
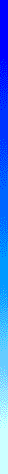



 126 Kb
126 Kb