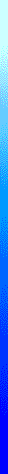
|
|
Э. Ж. Ренан
ЕВАНГЕЛИЯ
и
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава I. Евреи после разрушения храма
Глава II. Бетар, книга Иудеи, еврейский канон
Глава III. Эвион за Иорданом
Глава IV. Отношения между евреями и христианами
Глава V. Закрепление легенды и учения Христа
Глава VI. Еврейское Евангелие
Глава VII. Греческое Евангелие. — Марк
Глава VIII. Христианство и империя под властью Флавия
Глава IX. Распространение христианства. — Египет. —
Сибиллизм
Глава X. Греческое Евангелие пополняется и исправляется
(Матфей)
Глава XI. Тайна красоты Евангелия
Глава XII. Христиане семьи Флавиев. — Иосиф Флавий
Глава XIII. Евангелие от Луки
Глава XIV. Гонения Домициана
Глава XV. Климент Римский. — Прогресс
пресвитерианства
Глава XVI. Конец Флавиев. — Нерва. — Вторичное появление
Апокалипсиса
Глава XVII. Траян. — Добрые и великие императоры
Глава XVIII. Эфес. — Старость Иоанна. — Коринф. —
Доцетизм
Глава XIX. Лука, первый историк христианства
Глава XX. Секты Сирии. — Елказай
Глава XXI. Траян-гонитель. — Письмо Плиния
Глава XXII. Игнатий Антиохийский
Глава XXIII. Конец Траяна. — Восстание евреев
Глава XXIV. Окончательное отделение церкви от
синагоги
Приложение: Братья и двоюродные братья Иисуса
Введение
Я раньше предполагал закончить в одном томе историю Происхождения
христианства, но материалы так разрослись по мере того, как я подвигался вперед
в моей работе, что настоящий том будет предпоследним. Читатель найдет здесь
объяснение, насколько оно возможно, факта почти одинаковой важности с личной
деятельностью самого Христа: я говорю о том, каким образом была написана
легенда о Христе. Составление Евангелий — следующая по важности после жизни
Христа глава в истории происхождения христианства. Условия, при которых
происходило их составление, окружены таинственностью; но в последние годы
возникло много сомнений, и теперь можно сказать, что задача разрешения вопроса
о составлении Евангелий, называемых синоптическими, достигла зрелости. Отношения
христианства к римской империи, первые ереси. Исчезновение последних
непосредственных последователей Христа, постепенное отделение церкви от
синагоги, прогресс церковной иерархии, замена священнослужителями
первоначальной общины, начало епископата, появление вместе с Траяном чего-то
вроде золотого века для гражданского общества, — вот важнейшие события, которые
будут развертываться перед нами. Шестой и последний том будет содержать себе
историю христианства в царствование Адриана и Антонина; мы увидим начало
стоицизма, становление писаний псевдоиоаннических, первых апологетов, партию
св. Павла дошедшей благодаря преувеличениям, до Маркиона, старую
христианскую партию дошедшей до грубого миленизма и монтанизма; вместе с тем
быстрое развитие епископата, христианство день ото дня становится более
греческим и менее еврейским, единую «кафолическую церковь», начинающую
появляться из соглашения всех отдельных церквей и создающую центральный
неоспоримый авторитет, установившийся уже в Риме. Увидим, наконец, полное
отделение иудейства от христианства, происходящее окончательно после восстания
Бар-Кобу, возгоревшуюся мрачную ненависть между матерью и дочерью. С этого
момента можно сказать, что христианство сформировалось. Его принцип
авторитетности существует; епископат вполне заменил собой первоначальную
демократию, и епископы различных церквей сносятся друг с другом. Новая библия
готова — она называется Новым Заветом. Божественность Иисуса Христа принята
всеми церквями, вне Сирии Сын еще не равен Отцу; это второй бог, высший визирь
творения. Но это во всяком случае Бог. Наконец, два — три припадка весьма
опасных болезней, которые перенесла возникающая церковь, гностицизм, монтанизм,
доцитизм, еретическая попытка Маркиона, побежденная силой внутреннего
авторитета. Христианство, сверх того, распространилось во все стороны; оно
укрепилось в центре Галии и проникло в Африку. Оно — общественное дело;
историки говорят о нем; у него свои официальные защитники; его обвинители
начинают против него войну критики. Одним словом, христианство родилось, вполне
родилось; это еще дитя, оно сильно вырастет, но оно уже имеет все свои органы,
оно живет при полном свете; это уже зародыш. Пуповина, привязывающая его к телу
матери, окончательно отрезана. Он от нее уже ничего не получит: он будет жить
своей собственной жизнью.
Именно на этом моменте, около 160 года, мы остановим нашу работу. То,
что следует дальше, принадлежит истории и может быть по-видимому, относительно
легко рассказано. То, что мы хотели выяснить, принадлежит к образованию и
развитию зародыша и по большей части должно быть результатом выводов, а иногда
догадок. Умам, любящим только материальную точность, не должны нравиться
подобные расследования. Очень редко по поводу этих отдаленных периодов
получается возможность сказать с точностью, как происходило дело; но иногда
оказывается возможным представить себе разные способы, какими оно могло
произойти, и это уже много. Если какая-либо наука сделала в наше время
поразительные успехи, то это сравнительная мифология; эта наука учила нас не
столько тому, как сложился каждый миф, сколько показывала нам разные способы
сложения мифов, так что мы не можем сказать: такой-то полубог, такая-то богиня
несомненно буря, молния, заря и т. п., но мы можем сказать:
«атмосферные явления, в особенности те, которые относятся к буре, восходу и
закату солнца и т. п., служили обильными источниками богов и
полубогов». Аристотель имел право сказать: «Нет другой науки, кроме общей».
Сама история, история в полном значении слова, история, происходящая при
дневном свете и основанная на документах, избегает ли этой необходимости.
Конечно, нет. Мы не знаем в точности подробностей ни в чем. Самое важное, чтобы
были верны общее направление и крупные конечные выводы, которые оставались бы
верны даже в том случае, если бы все детали оказались ошибочными.
Как я уже сказал, главная задача этого тома — дать правдоподобное объяснение
способа составления трех Евангелий, называемых синоптическими, которые, по
сравнению с четвертым Евангелием, составляют нечто отдельное. Конечно,
оказывается невозможным с точностью определить многие пункты в этом трудном
исследовании. Но нужно признать вместе с тем, что за последние двадцать лет
этот вопрос сделал большие успехи. Насколько происхождение четвертого
Евангелия, приписываемого Иоанну, остается покрытым таинственностью, настолько
гипотезы о составлении так называемых синоптических Евангелий приобрели большую
правдоподобность. В действительности, было три рода Евангелий:
1) Евангелия оригинальные, первоначально составленные единственно по
устным преданиям, причем авторы не имели под рукой никаких ранее составленных
текстов (по-моему, таких Евангелий было два: одно, написанное по-еврейски или
скорее по-сирийски; в настоящее время оно утрачено, но много отрывков из этого
Евангелия сохранено в переводах на греческий и латинский языки Климентом
Александрийским, Оригеном, Евсевием, Епифанием, св. Иеронимом и др.;
другое, написанное по-гречески, — Евангелие св. Марка); 2) Евангелия
отчасти оригинальные, отчасти заимствованные, составленные из комбинации прежде
написанных текстов и устных преданий (такими являются: Евангелия, неправильно
приписываемые апостолу Матфею, и Евангелие, составленное Лукой;
3) Евангелия, составленные из вторых и третьих рук; составленные целиком
по рукописям лицами, не имевшими никакой живой связи с преданием (таково
Евангелие Маркиона и так называемые апокрифические Евангелия, заимствованные из
канонических Евангелий путем расширения). Разнообразие Евангелий произошло от
того, что предание, в нем заключающееся, очень долгое время оставалось устным.
Этого разнообразия не существовало бы, если бы жизнь Иисуса была сразу
написана. Желание преднамеренного искажения могло существовать на Востоке
менее, чем где-либо в другом месте, так как литературные воспроизведения
предыдущих повествований или, если хотите, плагиат — обычай историографии. [Это
можно наблюдать у целой серии арабских историков, начиная с Tabari, у Moise de
Khorene, в Firdousi. Последующий писатель брал повествования своих
предшественников полностью, ничего в них не изменяя.] Момент, в который
эпическое или легендарное предание записывается, определяет время прекращения
образования дальнейших его вариантов. И последовательное письменное изложение
не только не стремится к новым подразделениям, но, наоборот, имеет некоторого
рода скрытую тенденцию возвратить повествование к единству уничтожением всех
редакций его, признаваемых неточными. Было гораздо менее Евангелий в конце
II-го века, когда Ириней нашел мистические доказательства, на основании которых
он утверждал, что было только четыре Евангелия и не могло быть больше, чем в
конце первого столетия, когда Лука написал в начале своего повествования:
Epeisi per polloi epexeiritai (Лука, I, 1). Уже в эпоху Луки многие
первобытные редакции, по всей вероятности, исчезли. Устное предание производит
множество вариантов; с момента записи это разнообразие оказывается неудобством.
Если бы логика, подобная логике Маркиона, взяла верх, у нас было бы только одно
Евангелие, и лучшим указанием на искренность христианской веры служит то, что
стремление апологетов не уничтожило противоречий с целью приведения к единому
тексту. На самом деле, потребность в единстве была пересилена противоположным
желанием: ничего не потерять из предания, считавшегося драгоценным во всех
своих частностях. Приписываемое св. Марку желание сделать сокращенное
изложение более древних текстов совершенно противоречит духу того времени, к
которому это относится. Тогда скорее стремились пополнить текст разнородными
дополнениями, как это и сделал Матфей, чем отбросить из маленькой книги
имевшиеся подробности, которые считались проникнутыми божественным духом.
Наиболее важным документами для описываемой эпохи, кроме Евангелий и других
писаний, которыми объясняется их редакция, являются послания, где почти всегда
заметно подражание св. Павлу. Того, что мы скажем в нашей книге, буде
совершенно достаточно, чтобы познакомить читателя с нашим мнением по поводу
каждого из этих посланий. Счастливая случайность дала возможность в последнее
время получить значительные разъяснения к наиболее интересному из посланий —
посланию Климента Римского. С этим драгоценным документом были знакомы до сих
пор только по манускрипту, называвшемуся Александринус, присланному
в 1628 г. Кириллом Лукарисом Карлу I. В этом манускрипте был
значительный пропуск, помимо многих мест испорченных или неразборчивых, которые
нужно было заполнить предположениями. Новый манускрипт, найденный в Фанаре в
Константинополе, содержит текст послания в целости. Софийский манускрипт,
находившийся в библиотеке покойного г-на Моля и приобретенный кембриджским
университетом, заключает в себе сирийский перевод вышеупомянутого послания.
Г-ну Бенали поручено опубликовать этот текст. Сличение, произведенное
Лайтфутом, дало весьма важные результаты для критики.
Вопрос о том, действительно ли послание Климента Римского написано им самим,
имеет весьма малое значение, так как оно является коллективным произведением
римской церкви, и вопрос сводится к тому, кто водил пером в данном случае.
Совсем другое дело послания, приписываемые св. Игнатию. Послания,
составляющие сборник, — или подлинные, или произведения подделывателя. Во
втором случае они сфабрикованы по меньшей мере через шестьдесят лет после
смерти Игнатия, а за эти шестьдесят лет произошли такие перемены, что
документальное значение этого сборника совершенно меняется. Так что невозможно
приниматься за историю происхождения христианства, не составив предварительно
того или другого взгляда на эти документы.
Вопрос о посланиях св. Игнатия самый трудный, после вопроса о
Иоаннических произведениях, из всех вопросов, касающихся первоначальной
христианской литературы. Некоторые из наиболее поразительных мест одного из
писем, составляющих часть этой переписки, известны и цитируются с конца II
столетия. К тому же мы имеем свидетельство человека, которого с удивлением
видят ссылающимся на предметы церковной истории, а именно Lucien de Samosate.
Остроумный рисунок нравов, названный этим увлекательным писателем «смертью
Перегрина», заключает в себе почти очевидные намеки на триумфальное путешествие
пленного Игнатия и на его послания, обращенные к церквям. Это серьезное
указание на подлинность посланий, о которых мы теперь говорим. С другой
стороны, стремление предполагать существование все возможных писаний было так
распространено в христианском обществе, что необходимо быть весьма осторожным.
Так как уже доказано, что нисколько не стеснялись приписывать и другие писания
Петру, Павлу и Иоанну, то ничего нет предосудительного высказать предположение,
что точно также поступали по отношению к лицам такого же высокого авторитета,
как Игнатий и Поликарп. И только расследование документов дает возможность
выразить то или другое мнение. Во всяком случае неоспоримо, что чтение посланий
св. Игнатия вызывает серьезные сомнения и возражения, на которые до сих
пор еще не ответили, как следует.
Обсуждение оспариваемых посланий такой личности, как св. Павел, из
писаний которого мы, по свидетельству всех, имеем обширные отрывки несомненной
подлинности, и биография которого нам довольно хорошо известна, имеет под собой
почву. Начинают с неоспоримых текстов и из установленных рамок биографии и с
этим сравнивают сомнительные писания, смотрят, в согласии ли они с данными,
всеми принятыми, и в некоторых случаях, как например в посланиях к Титу и Тимофею,
получается вполне удовлетворительное показание. Но мы ничего не знаем ни о
личности Игнатия, ни о его жизни; а между всеми приписываемыми ему писаниями
нет ни одного, которое не оспаривалось бы. У нас нет никакого солидного
критерия для того, чтобы определить: принадлежит это ему или нет. Дело еще
сильно усложняется тем, что текст его посланий непостоянен. Манускрипты
греческие, латинские, сирийские, армянские одного и того же послания
значительно отличаются один от другого. Эти послания в течение многих веков,
кажется, специально вводили в искушение подделывателей и исказителей текстов.
Ловушки и трудности встречаются на каждом шагу.
Не считая второстепенных вариантов и произведений явно поддельных, мы имеем
два сборника, неодинаковых размеров, посланий, приписываемых Игнатию. Один
состоит из семи писем, обращенных к ефесянам, магнезиянам, траллесцам,
римлянам, филадельфийцам, смирниотам и Поликарпу. Другой состоит из тринадцати
писем, т. е. Из 1) семи писем первого сборника, значительно увеличенных;
2) четырех новых писем Игнатия к тарсианам, филиппийцам, антиохийцам,
Герону; 3) письма Марии Кастабальской к Игнатию и ответного письма Игнатия
к ней. Между этими двумя сборниками нельзя колебаться. Критики, начиная с
Usserius, почти все согласны между собой в предпочтении сборника семи писем
сборнику тринадцати. Нет никакого сомнения, что лишние письма в большом
сборнике подлинные. Что же касается семи писем, находящихся в обоих сборниках,
то их правильный текст надо искать в малом сборнике. Многие частности в тексте
большой коллекции ясно указывают руку интерполятора, что, однако, не мешает
этой коллекции иметь большое критическое значение для составления текста, так
как, по-видимому, интерполятор имел в своих руках прекрасный манускрипт,
указания которого часто предпочтительнее имеющихся неинтерполированных
манускриптов.
Находится ли, по крайней мере, сборник из семи писем вне сомнений? Он далек
от этого. Первые сомнения высказала великая школа французской критики в
XVII столетии. Сумер, Блондель высказали весьма серьезные возражения по
поводу некоторых мест в коллекции семи писем. Даллье в 1666 году
опубликовал замечательную диссертацию, в которой он отвергал весь сборник
целиком. Несмотря на горячие возражения Пирсона, епископа Честерского, и сопротивление
Котелье, большинство независимых умов — Ларок, Банаж, Казимир Узен
присоединились к мнению Даллье. Школа, которая в наше время в Германии научно
применила критику в истории происхождения христианства, пошла по тем же имеющим
двухсотлетнюю древность следам. Неандр и Геслер остановились в сомнении;
Христиан Бауер решительно отрицал все, ни одного послания он не помиловал. Этот
великий критик не удовольствовался отрицанием, он объяснял. Он считал семь
игнатьевских посланий подделкой II-го столетия, произведенной в Риме с целью
дать основу все возрастающему с каждым днем авторитету епископата. Швеглер,
Гилгенфельд, Воше, Фолкмар и позднее Шолтен, Перлейдерер с небольшим различием.
Между тем многие знающие богословы, — Ульхорн, Гефеле, Дрессель, продолжали искать
в сборнике из семи посланий подлинные места, и даже отстаивать подлинность
всего сборника. Одно время казалось, что важное открытие в 1840 году
разрешит вопрос в эклектическом смысле и даст орудие в руки тех, которые
пытаются произвести трудную операцию отделения в этих малохарактерных текстах
истинного от искаженного.
Между сокровищами, приобретенными британским музеем из монастыря в Нитрии,
Кюртон нашел три сирийских манускрипта; во всех трех манускриптах заключалось
одно и то же собрание игнатьевских посланий, но в значительно более сокращенном
виде, чем в обоих греческих сборниках.
В этих манускриптах имелись только три послания, — к эфесянам, к римлянам и
к Поликарпу, и все три были короче греческого текста. Совершенно естественно
явилась мысль, что, наконец, имеется подлинный текст Игнатия, более древний,
чем интерполированные. Фразы, цитируемые Иринеем и Оригеном, как принадлежащие
Игнатию, находились в этом сирийском варианте. Надеялись доказать, что
подозрительные места там не находились. Бунзен, Ричль, Вейсс, Липсус потратили
много энергии, чтобы поддержать эту мысль. Г-н Эвальд хотел навязать ее
надменным тоном; но были выдвинуты весьма сильные возражения. Бауэр, Вордсворт,
Гефеле, Ульхорн, Меркс взялись доказать, что эта маленькая сирийская
коллекция — далеко не первоначальный текст, что она представляет собой
обрезанный, сокращенный текст. Правда, не было ясного указания, чем мог
руководствоваться человек, сокращавший его. Но, разыскивая все признаки
знакомства сирийцев с интересующими нас посланиями, пришли к заключению, что
сирийцы не имели более подлинного, чем греческий текст игнатьевских посланий,
но что им была известна коллекция из тринадцати посланий, которой и пользовался
автор сокращенного текста, найденного Кюртоном.
Петерман много содействовал в этом разобрав армянский перевод разбираемых
посланий. Этот перевод был сделан с сирийского; он также содержал тринадцать
писем и заключал в себе все их наиболее слабые места. И в настоящее время почти
все согласны в том, что к сирийскому тексту можно обращаться только как к
варианту деталей в посланиях, приписываемых антиохийскому епископу.
Из вышесказанного видно, что у критиков существуют три различные взгляда на
сборник из семи посланий, единственно заслуживающий обсуждения. Одно признают
весь сборник апокрифическим, другие признают его почти подлинным; некоторые
стараются различить подлинные части сборника от апокрифических. Второе мнение
нам представляется неосновательным. Не утверждая, что вся корреспонденция
епископа антиохийского — апокриф, все-таки можно сказать, что стремление
доказать подлинность всего сборника не более как безнадежная попытка.
И действительно, если исключить послание к римлянам, полное удивительной
энергии, мрачного огня и проникнутое своеобразным характером оригинальности,
остальные шесть посланий, кроме двух-трех мест, холодны, без оригинальности и
безнадежно монотонны. В них ни одной из тех живых особенностей, которые кладут
такую поразительную печать на послания св. Павла и даже на послания
св. Иакова и Климента Римского. Это туманные обращения, не имеющие связи с
личностями тех, к которым они обращены; и в них все время господствует
предвзятая идея об усилении епископской власти и превращения церкви в единую
иерархию.
Конечно замечательная эволюция замены коллективного авторитета церкви или
синагоги управлением иерея-епископа (два термина, первоначально представляющие
одно и то же), и помещение среди иереев и епископов еще епископа вне ранга для
наблюдения
за другими, началось еще очень рано. Но невероятно, чтобы около 110 или
115 годов это движение ушло так далеко, как мы видим в игнатьевсих
посланиях. Для автора этих любопытных писаний епископ — вся церковь; нужно
следовать ему во всем, спрашивать его совета обо всем: он представляет в себе
одном всю общину. Он — сам Христос (Послание к Еф., 6). «Там, где епископ,
там церковь, также, как где Христос, там кафолическая церковь» (Послание к
Смир., 8). Разделение между церковными духовными чинами не менее
характерно. Священники и диаконы не более, как струны лиры в руках епископа; от
их гармонии зависит правильность тона церкви. Над отдельными церквями стоит
всемирная кафолическая церковь (Послание к Смир., 8). Все это, конечно,
относится к концу II столетия, а не к первым годам его. Нерасположение, которое
высказали в этом вопросе наши старинные французские критики, основывалось и
происходило из совершенно верного сознания, что произошла последовательная
эволюция в христианских догматах.
Ереси, опровергаемые автором игнатьевских посланий с таким ожесточением,
также принадлежат к периоду позднейшему, трояновскому. Они все имеют связь с
доцетизмом или гностицизмом, подобным валентиновскому. На этом пункте мы менее
настаиваем, так как пастырские послания и иоаннические послания опровергаю
заблуждения очень сходные; итак, мы предполагаем, что эти писания принадлежать
первой половине II века. Между тем, идея правоверности, вне которой одни
только заблуждения, развивается с такой силой в интересующих нас писаниях, что
они ближе к временам св. Иринея, нежели к временам первоначального
христианства.
Главный признак апокрифических писаний — это напыщенная тенденция и ясное
проявление цели, которую имел в виду подделыватель, составляя их. Тот же
характер замечается в
очень сильной степени и в посланиях, приписываемых Игнатию, за исключением
послания к римлянам. Автор хочет нанести сильный удар в пользу епископальной
иерархии; он хочет раздавить еретиков и схизматиков своего времени тяжестью
неопровержимого авторитета. Но где найти авторитет более высокий, чем тот
которым пользуется почитаемый епископ, героическая смерть которого известна
всему миру? Что может быть торжественнее советов, даваемых этим мучеником за
несколько дней или несколько недель до своего появления в амфитеатре?
Св. Павел в предполагаемых посланиях к Титу и Тимофею изображен старым и
близким к смерти. Последняя воля мученика должна быть священна, и в этом случае
признание апокрифической работы облегчалось тем, что св. Игнатий, как
думали, действительно писал во время своего путешествия на смерть.
Прибавим к этим изображениям еще материальные невероятности. Приветствия
церквям и сношения, которые предполагаются этими приветствиями между автором
посланий и церквями, не могут быть хорошо объяснены. Окружающие обстоятельства
имеют в себе что-то неловкое и тупое, как это замечается и в фальшивых
посланиях Павла к
Титу и Тимофею. В писаниях, о которых мы говорим, автор усиленно пользуется
четвертым Евангелием и иоанническими посланиями; аффектированная манера, с
которой автор говорит о сомнительном послании к эфесянам, также возбуждает
подозрение. И вместе с тем очень странно, что автор, стараясь восхвалить
эфесскую церковь, указывает на сношения этой церкви со св. Павлом, но
ничего не говорит пребывании св. Иоанна в Эфесе, который был так тесно
связан с Поликарпом, учеником Иоанна. Также надо признать, что подобной
корреспонденции она слишком мало была цитирована отцами церкви, и, по-видимому,
уважение к ней христианских авторов до IV столетия не соответствовало бы
достоинству, если бы она была подлинна. Отделив, как всегда, в сторону,
послание к римлянам, которое, по нашему мнению, не составляет части
апокрифического сборника, можно сказать, что остальные шесть посланий мало
читались; св. Иоанн Златоуст и духовные писатели Антиохии, по-видимому, не
знали их. И странная вещь! Автор наиболее авторитетных «актов» мученика
Игнатия, судя по тому, что Рюинар опубликовал по манускрипту Кольбера, имел сам
о них очень смутное понятие. То же можно сказать и об авторе «актов»,
опубликованных Дресселем.
Может ли быть также осуждено послание к римлянам, как того заслуживают
остальные шесть посланий? Нужно прочесть перевод части упомянутого послания в
этом томе. Этот отрывок несомненно оригинален и бьет по пошлой обыденной
стороне других посланий, приписываемых епископу Антиохии. Все ли послание к
римлянам есть произведение святого мученика. Можно сомневаться, но,
по-видимому, в его
основании лежит оригинал. Там и только там можно узнать то, что г-н Цан слишком
великодушно приписывает всей игнатьевской корреспонденции, а именно отпечаток
сильного характера и могучей личности. Стиль послания к римлянам загадочный,
своеобразный, тогда как слог остальной корреспонденции заурядный и довольно
плоский. Послание к римлянам не содержит в себе обыденных мест о духовной
дисциплине, в которых проявляется цель подделывателя. Сильные выражения,
которые встречаются там о божественности Иисуса Христа и об евхаристии, не
должны слишком удивлять нас. Игнатий принадлежит к школе Павла, где формулы
трансцендентальной теологии были более подходящие, чем в суровой школе
иудео-христианской. Еще менее следует удивляться многим цитатам и подражаниям
Павлу, находящимся в послании Игнатия, о котором мы теперь говорим. Нет
никакого сомнения, что чтение великих подлинных посланий Павла было обычным
делом для Игнатия. То же самое я могу сказать о цитате
св. Матфея (56), — которой, впрочем, не достает в некоторых старинных
переводах, — и относительно неясных намеков на генеалогию синоптиков
(пар. 7). Игнатий несомненно обладал Aexcesta i praxcesta Иисуса таким,
каким оно читалось в то время, и эти рассказы в главных пунктах мало
расходились с тем, что достигло до нас. Более важным возражением, конечно,
является указание на то, что автор этого послания, по-видимому, заимствовал из
четвертого Евангелия. Не достоверно, что Евангелие существовало около
115 года, но выражения, подобные греческой o arxos aiosos tovtov образы,
как voop kos могли быть мистическими выражениями, употреблявшимися в некоторых
школах в первую четверть II столетия, раньше чем четвертое Евангелие их освятило.
Эти присущие тексту аргументы не единственные, которые обязывают нас отвести
посланию римлянам совершенно особое место в игнатьевской корреспонденции. В
каком отношение это послание находится в противоречии с остальными шестью? В
4-ом параграфе Игнатий заявляет римлянам, что он их представляет церквям,
желающим отнять у него мученический венец. Ничего подобного нет в посланиях
этим церквям. Еще важнее то, что, по-видимому, послание к римлянам дошло до нас
не тем путем, как остальные шесть. В манускриптах, сохранивших нам собрание
сомнительных писем, не находится послания к римлянам. Относительно правдивый
текст этого послания передается Актами, называемыми кольберовскими,
мученичества святого Игнатия. Оно было взято оттуда и помещено в сборник
тринадцати писем. Но все доказывает,
что сборник посланий к эфесянам, магнезианам, траллийцам, филадельфийцам,
смирниотам и Поликарпу, не заключал в себе послания к римлянам и что эти шесть
писем, составляющие сборник, составляют единство и принадлежат одному автору, и
только позднее объединили обе игнатьевские коллекции, одну из шести
апокрифических писем, другую из одного, может быть подлинного, письма. Достойно
замечания, что в сборник из тринадцати писем, послание к римлянам поставлено
последним, хотя его важность и известность должны были дать ему первое место.
Наконец, во всех духовных преданиях, послание к римлянам имеет особую судьбу. В
то время как шесть посланий очень редко цитируются, — на послание к римлянам,
начиная с Иринея, ссылаются с поразительным почтением; заключающиеся в нем
энергические слова, выражающие любовь к Иисусу и пыль мученика, составляют, в
некотором роде, как бы часть христианской веры и известны всем. Пирсон, затем
Цан установили удивительный факт, что в подлинном рассказе мученичества Поликарпа,
написанном одним из смирниотов в 1552 году, в § 3, есть место из
послания Игнатия к римлянам. По-видимому, смирниот, автор этих «актов», помнил
наиболее поразительные места из послания к римлянам, особенно пятый параграф.
Итак, все придает посланию к римлянам особое место в игнатьевской
литературе. Цан признает это особое положение и показывает очень ясно в разных
местах, что последнее никогда не представляло одного целого с другими шестью,
но он не вывел следствия из этого факта. Его желание доказать, что вся
коллекция семи писем должна быть принята целиком или отвергнута. Это значило
повторить в ином виде ошибку Бауэра, Гинленфелда, Фолкмара; серьезно
компрометировать одну из драгоценностей первоначальной христианской литературы,
соединяя ее с плохими писаниями, почти уже осужденными.
Итак, представляется наиболее вероятным, что в игнатьевской литературе
подлинным оказывается только послание к римлянам. Но и это послание не избегло
искажений. Длинные повторения, которые в нем замечаются, может быть, раны,
нанесенные исказителем текста этому прекрасному памятнику античного
христианства. При сравнении текста, сохраненного нам кольберовскими актами, с
текстом коллекции тринадцати посланий, с переводами латинским и сирийским, с
цитатами Евсевия оказывается значительная разница. По-видимому, автор
кольберовских актов, включая в свой рассказ этот драгоценный отрывок, не
постеснялся ретушировать его во многих местах, так например, Игнатий дает себе
прозвание Феофорус. Но ни Иреней, ни Ориген, ни Евсевий, ни св. Иероним не
знают этого характерного названия; оно впервые появляется в «актах» мученика,
которые заставляют наиболее важную часть допроса Траяна вращаться около этого
эпитета. Идея применить его к Игнатию могла явиться из некоторых предполагаемых
мест посланий, как например § 9 послания к эфесянам. Автор актов, встречая
это имя в преданиях, взял его и прибавил к имени в послании, написав в своем
рассказе: Игнатий Богоносец. Я думаю, что в первоначальной редакции шести
апокрифических посланий слово Феофорус не составляло части имени. Постскриптум
послания Поликарпа к филиппийцам, где упоминается Игнатий, и который составлен
той же рукой, как и шесть посланий, — что мы увидим далее, — не имеет этого
эпитета.
В праве ли мы абсолютно утверждать, что в шести сомнительных посланиях нет
ни одного места, заимствованного из подлинных писаний Игнатия? Конечно, нет, и
если автор шести апокрифических писем не знал, по-видимому, послания к
римлянам, то маловероятно, чтобы он имел другие подлинные писания мученика. Единственное
место в послании (§ 19) к эфесянам как бы разрывает тусклое и смутное
основание сомнительных посланий. То, что касается tria mustiria hraigis,
это вполне соответствует туманному, необычайному, таинственному стилю,
напоминающему четвертое Евангелие, то же, что мы заметили в послании к
римлянам. Вышеуказанное место, как и блестящие черты послания к римлянам, часто
цитируются, но это слишком одинокий изолированный факт, чтобы можно было
настаивать на нем.
Существует вопрос, имеющий тесную связь с посланиями, приписываемыми
св. Игнатию, это вопрос о послании, приписываемом Поликарпу. В двух
отдельных местах Поликарп (§§ 9 и 13) или тот, кто оставил это
письмо, упоминает по имени Игнатия. В третьем месте он, по-видимому, тоже на
него намекает (§ 1). В одном месте мы читаем (§ 13 и последний): «Вы
мне писали, вы и Игнатий, для того, чтобы если кто-нибудь едет отсюда в Сирию,
то пусть отвезет туда ваши письма. Я возьму заботу об этом на себя, если найду
подходящую минуту, и исполню вашу просьбу сам, или поручу ее посланному,
которого я пошлю для себя и для вас. Что же касается посланий Игнатия,
обращенных к нам и другим, которые у нас имеются, мы их вам посылаем, как вы о
том просили; они прилагаются к этому письму. Вы получите от них много пользы,
так как они дышат верой, терпением и возвеличением нашего Господа Бога».
Старый латинский перевод имеет еще следующее дополнение: «Сообщите, что
знаете об Игнатии и тех, кто с ним». Эти строки ясно соответствуют тому месту в
письме Игнатия к Поликарпу (§ 8), в котором первый просит последнего
послать гонцов в разные места. Все это подозрительно, так как послание
Поликарпа вполне заканчивается 12 параграфом, и если признать подлинность
послания, невольно является предположение, что постскриптум прибавлен к посланию
Поликарпа автором шести апокрифических посланий Игнатия. Ни в одном из
греческих манускриптов послания Поликарпа нет этого постскриптума. Он известен
только по цитате Евсевия и по латинскому переводу. В послании Поликарпа
опровергаются те же заблуждения, как и в шести посланиях Игнатия; ход мыслей
тот же самый. Во многих манускриптах послание Поликарпа присоединено к собранию
посланий Игнатия а виде предисловия или эпилога. По-видимому, послание
Поликарпа и послания Игнатия написаны тем же лицом, или автор посланий Игнатия,
желая найти опору в послании Поликарпа, прибавил к нему постскриптум и тем
создал подтверждение своей работе. Это прибавление хорошо согласовалось с
упоминанием Игнатия в середине письма Поликарпа (§ 9). Оно еще лучше
согласовалось, по крайней мере по внешности, с первым параграфом этого письма,
котором Поликарп хвалит филлипийцев за то, что они приняли, как следует,
закованных цепи исповедников, которые проходили через их город.
Из подделанного таким образом послания Игнатия образовался псевдо-игнатьевский
сборник, вполне однородный по стилю и окраске, настоящий защитник правоверия и
епископата. Рядом с этим сборником сохранилось более или менее подлинное
послание Игнатия в римлянам. Один признак дает повод думать, что подделыватель
знал это писание, но, по-видимому, не находил удобным присоединять его к своей
коллекции, так как оно нарушало единство и указывало ее неподлинность.
Иреней около 180 года знал Игнатия только по энергическим выражениям
его послания к римлянам: «Я — пшеница Христа и т. д.» Несомненно, он
читал это послание, хотя то, что он говорит, хорошо объясняется и устным
преданием. Судя по всем видимостям, Иреней не имел шести апокрифических
посланий и, по всей вероятности, читал настоящее или предполагаемое послание
своего учителя Поликарпа к филлипийцам без постскриптума: Egrafate moi...
Ориген признавал послание к римлянам и апокрифические письма. Он цитирует
первое в прологе своих комментариев «Песни Песней» и предполагаемое послание к
эфесянам в своем поучении IV о св. Луке. Евсевий был знаком с игнатьевским
сборником в том же виде, в каком его знаем и мы, т. е. состоящим из семи
посланий. Он не пользуется Актами мученика; он не делает различия между
посланием к римлянам и шестью другими. Он читал послание Поликарпа с постскриптумом.
По-видимому, судьба предназначила имя Игнатия особому вниманию производителей
апокрифов. Во второй половине четвертого столетия около 375 года появилась
новая коллекция игнатьевских посланий, коллекция из тринадцати писаний, которым
сборник из семи писем послужил как бы ядром. Но так как в этих семи посланиях
было много темных мест, то новый подделыватель интерполировал их. Много
пояснительных мест, внесенных в текст, бесполезно обременили его. Шесть новых
писем было сфабриковано с начала до конца, несмотря на их явную
неправдоподобность, они были повсеместно приняты. Дальнейшие переделки были
только сокращениями первых двух коллекций. Сирийцы удовольствовались выпуском
маленького сборника из трех сокращенных писем, при составлении которых не руководствовались
чувством справедливости для отделения подлинного от подложного. Еще несколько
произведений, не заслуживающих какого бы то ни было разбора, появились позже,
увеличив собой игнатьевскую литературу. Они имеются только по-латински.
«Акты» мученичества св. Игнатия представляют разнообразия не меньше,
чем и самые тексты, приписываемых ему посланий. Насчитывается до восьми-девяти
редакций. Не нужно придавать большого значения этим повествованиям; ни одно из
них не имеет ценности оригинала. Все они появились после Евсевия и составлены
по данным, сообщенным Евсевием, данным, которые сами не имеют другого основания
кроме сборника посланий, особенно послания к римлянам. В самой древней своей
форме «акты» появились не ранее конца IV века. Их нельзя сравнить с
«актами» мученичества Поликарпа и мученичества в Лионе, повествованиями
действительно подлинными и современными описываемых в них событиям. Они полны
невероятностей, исторических погрешностей и ошибок по поводу положения империи
в эпоху Траяна.
В этом томе, как и в предыдущих, мы постараемся держаться середины между
критикой, старающейся всеми способами защитить тексты, уже с давних пор
дискредитированные, и преувеличенным скептицизмом, отбрасывающим a priori
все, что рассказывает христианство о своем происхождении. Особенно будет
заметен наш промежуточный метод в том, что касается вопрос о Климентах и
христианских Флавиях. Именно относительно Климента заключения так называемой
тюбингенской школы были из наихудших. Недостаток этой школы, иногда
плодотворной, состоит в отвергании традиционных систем, правда, часто созданных
из хрупкого материала, и замене их теориями, основанных на еще более хрупких
авторитетах. Так в вопросе об Игнатии не хотели ли исправить предание конца
II века при посредстве Иоанна Малалы? В вопросе о волшебнике Симоне
теологи, к тому же прозорливые, не сопротивлялись ли до самого последнего
времени необходимости признать действительности существования этого лица? В
вопросе о Климентах в глазах некоторых критиков вы могли бы получить репутацию
недалекого человека, если бы признавали, что Климент Римский существовал, и
если вы не объясняли все, до него относящееся, недоразумением и смешением с
Флавием Клименсом, тогда, как, напротив, данные о Флавии Клеменсе неопределенны
и противоречивы. Мы не отрицаем света христианства, по-видимому, исходящего из
мрачных развалин флавианской фамилии; но для того, чтобы извлечь оттуда крупный
исторический факт, посредством которого можно исправить сомнительные предания,
нужна была большая предвзятость или отсутствие меры в выводах, что весьма часто
вредит в Германии редким свойствам прилежания и усердия. Отбрасывают солидные
гипотезы и заменяют их слабыми; отвергают удовлетворительные тексты и принимают
почти без расследования рискованные комбинации услужливой археологии. Нового,
вот чего хотят во что бы то ни стало и получают новое посредством преувеличения
идей, часто правильных и проницательных. По слабому течению, точно
определенному в уединенном заливе заключают о великом океанском течении.
Наблюдения были правильные, следствия же были выведены ложные. Я далек от мысли
отрицать или уменьшать услуги, которые немецкая наука оказала в деле нашего
трудного исследования, но чтобы воспользоваться ими настоящим образом, надо
относиться к ним с большой разборчивостью. Особенно важно принять решение не
считаться с высокомерной критикой людей системы, которые называют вас невеждой
и отсталым за то, что вы не принимаете сразу последнюю новинку, порождение ума
какого-нибудь молодого доктора, которое может быть полезно только, как
побуждение к расследованиям среди ученых кругов.
Глава I. Евреи после разрушения храма
Никогда народ не испытывал подобного разочарования, какое выпало на долю
еврейского народа на другой день после того, когда, вопреки самым положительным
уверениям божественных оракулов, храм, предполагавшийся несокрушимым, обрушился
среди костра, зажженного солдатами Тита.
Почти уже касаться осуществления величайшей из грез и быть вынужденным от
нее отказаться; в момент, когда ангел-истребитель уже раскрывал облако,
увидеть, что все исчезло в пустоте; объявлять вперед о божественном пришествии
и получить жестокое опровержение от грубых фактов, — не следовало ли усомниться
в храме, усомниться в Боге? И действительно, первые годы вслед за катастрофой
70-го года были годами сильного лихорадочного состояния, может быть наиболее
сильного из когда-либо пережитых еврейской верой. Едом (этим именем евреи уже
называли тогда римскую империю), Едом — вечный враг Бога — торжествовал; идеи,
признавшиеся наиболее неоспоримыми, обвинялись в ложности; Иегова, казалось,
нарушил свой договор с детьми Авраама. Приходилось ставить вопрос, сможет ли
даже вера Израиля, несомненно, наиболее пламенная из всех когда-либо
существовавших, противостоять очевидности и совершить небывалый подвиг:
надеяться при полном отсутствии надежды.
Сикарии, экзальтированные, почти все были перебиты; те, которые пережили,
провели остаток своей жизни в состоянии угрюмого оцепенения, в которое впадают
сумасшедшие вслед за припадком бешенства. Саддукеи почти исчезли
в 66 г. вместе со священнической аристократией, которая жила храмом и
от него получала свой престиж. Предполагали, что некоторые из оставшихся в
живых членов знатных семейств вместе с Иродианами укрылись на севере Сирии, в
Армении и Пальмире, и долгое время были в связи с династиями этих стран, и в
последний раз блеснули в лице Зиновии, которая появилась в III-м веке как
еврейка секты саддукеев, ненавидимая талмудистами и опередившая своим простым
монотеизмом арианизм и исламизм. Это весьма возможно; но во всяком случае,
подобные осколки, более или менее подлинные, саддукейской партии стали почти
совершенно чуждыми для остальной части еврейской нации; фарисеи считали их
врагами.
Падение Иерусалима пережило и осталось почти без изменения только
фарисейство, — умеренная партия еврейского общества, партия, менее других
частей еврейского народа смешивавшая политику с религией, ограничивая цель
своей жизни тщательным исполнением предписаний. Удивительная вещь: фарисеи
пережили кризис почти целы и невредимы; революция прошла по ним, почти не задев
их. Поглощенные своей единственной заботой, точным соблюдением Закона, они
почти все бежали из Иерусалима раньше наступления последних судорог и нашли
себе приют в нейтральных городах Явнее и Лидде. Зелотами были только отдельные
экзальтированные личности, саддукеи были только классом; фарисеи были нацией.
По существу мирные, преданные тихой жизни и трудолюбивые, фарисеи были
довольны, если могли исполнять свой семейный культ, эти настоящие израильтяне
противостояли всем испытаниям; они составили ядро иудейства, которое через
средние века в целости достигло наших дней.
Закон, — вот все, что осталось у еврейского народа после разрушения его
религиозных учреждений. Общественное богослужение, после разрушения храма,
стало невозможно; пророчество после ужасного удара, которое оно только что
получило, было вынуждено замолчать; святые гимны, музыка, церемонии, — все это
стало безжизненно или бесцельно, с тех пор как храм, служивший центром
еврейского мира, перестал существовать. Тора же в своей неритуальной части была
по-прежнему возможна. Тора представляла собой не только религиозный закон, а
полное законодательство, гражданский закон, личные правила, делающие из народа,
ему подчиняющиеся, род отдельной республики. Вот предмет, к которому
прикрепилась отныне с фанатизмом еврейская вера. Ритуал должен был глубоко
измениться; но каноническое право сохранилось почти вполне. Объяснять и в
точности исполнять Закон явилось единственной целью жизни. Единственная наука
уважалась, это наука Закона. Предание стало идеальным отечеством еврея. Острые
споры в течение стольких лет, охватывавшие все школы, были ничто в сравнении с
тем, что последовало. Религиозная мелочность и точность святош заменили собой
весь культ у евреев.
Не менее важным последствием нового порядка вещей, в котором отныне жил
Израиль, была окончательная победа ученого над священником. Храм погиб, но
школа была спасена. Священнику, после разрушения храма оставалось мало дела.
Ученый, или вернее судья, толкователь Торы, наоборот, стал главным лицом.
Трибуналом (beth-den) в эту эпоху была великая школа раввинов.
Ab-beth-den, президент трибунала, был одновременно и религиозным и
гражданским вождем. Всякий признанный раввин имел право входа в огороженное
пространство; решения постановлялись большинством голосов. Ученики же, стоя за
барьером, слушали и учились тому, что нужно для того, чтобы в свою очередь
сделаться судьями и учеными.
«Непроницаемая цистерна, не пропускающая ни капли воды», вот отныне идеал
Израиля. Еще не было писанного руководства для этого традиционного права, и
должно было пройти более ста лет, прежде чем споры школ привели к созданию
свода, называвшегося Мишна. [Мишна означает «законы, передаваемые устно, а не
писанные» в противоположность Mikza — «законам, читаемым, а следовательно
писанным»]. Но основы этой книги в Галилее, в действительности же она
зародилась в Явнее. Около конца 1-го столетия появились маленькие тетрадки с
записями почти алгебраического стиля в сокращенной форме, дававшие разрешения
знаменитыми раввинами затруднительных случаев.
Самая могучая память уже не могла выдержать всей тяжести преданий и
предыдущих решений. Это вызвало необходимость записывания. И с этих пор мы
начинаем слышать о Мишна, т. е. о маленьких сборниках или halakoth,
называвшихся по имени рабби Елиазара-бен-Иакова, которого в конце I-го века
определяли так: краткий, но хороший. Мишнический трактат Eduioth,
отличающийся от всех других тем, что не имеет в виду специального предмета, а
представляет собой сокращенный Мишна и имеет ядром ediuoth'ы или
свидетельства, относящиеся до предыдущих решений, которые были собраны в Явнее
и пересмотрены после отрешения рабби Гамалиила младшего. В то же время рабби
Елиазар-бен-Иаков составил по воспоминаниям описание святая святых,
представляющее основание для трактата Middoth. Simeon de Mispa
был по-видимому, в еще более отдаленную эпоху автором трактата Joma, в
первой его редакции, относящегося к празднику Судного Дня, а может быть и
трактата Talmud.
Противоречие между этими тенденциями и зарождающимся христианством было
такое же, как между водой и огнем.
Христиане все более и более отрывались от Закона; евреи все более и более
неистово цепляясь за него. Сильная антипатия существовала, по-видимому, у
христиан к духу мелочности без снисхождения, который все более и более
стремился одержать верх в синагогах. Пятьдесят лет перед тем Иисус выбрал
именно этот дух мишенью своих наиболее горячих речей. С тех пор казуисты все
более и более углублялись в свое тщетное остроумие. Несчастья, постигшие нацию,
ничем не изменили их характера. Спорщики, тщеславные, завистливые,
подозрительные, взаимно нападая друг на друга по чисто личным мотивам,
проводили свое время в путешествиях между Явнеей и Лиддой, исключая друг друга
по пустякам.
Название «фарисей» до этого времени принималось христианами в хорошем
смысле. Иаков и
вообще все родные Иисуса были верными фарисеями. Сам Павел хвалился тем, что он
фарисей и сын фарисея. Но после осады началась война. При собирании по
преданиям слов Иисуса, это новое настроение оказало свое влияние. И слово
«фарисей» в обыкновенных Евангелиях, как впоследствии слово «еврей» в
Евангелии, приписываемом Иоанну, приобрело смысл врага Иисуса. Осмеяние
казуистики было одним из существенных элементов евангельской литературы и одной
из причин ее успеха. Для человека, действительно добродетельного, ничто так не
противно, как нравственный педантизм. Чтобы очиститься в своих собственных
глазах от подозрений в обмане, ему приходится по временам сомневаться в своих
собственных поступках, в своих собственных достоинствах. Ему представляется
врагом Бога тот, кто претендует получить спасение по безошибочным рецептам.
Фарисей стал чем-то худшим порока, так как он представляет добродетель в
смешном виде, и ничто не доставляет нам большей радости, как видеть Христа,
наиболее добродетельного человека, высказывающим презрение в лицо лицемерной
буржуазии, давая ей понять, что сами правила, которыми она гордится, может
быть, как и все остальное, не более как суета.
Последствием нового положения, в которое был поставлен еврейский народ, было
усиление его обособленности и развитие духа исключительности. Ненавидимый,
презираемый миром Израиль все более и более замыкался сам в себе.
Необщительность «Terioschouth» сделалась законом общественного спасения.
Жить только между собой в чисто еврейском мире, все менее и менее приходить в
сношение с язычниками, прибавить к Закону новые требования, сделать его
трудновыполнимым, — вот цель, которую преследовали ученые, и умело достигли ее.
Отлучение умножилось. Для соблюдения Закона требовалось такое сложное
искусство, что еврею не оставалось времени думать о чем-нибудь другом. Таково
происхождение «восемнадцати мер», полного свода секвестрации, установление
которых относят к временам, предшествующим разрушению храма, но которые
получили применение только после 7-го года. Эти все «восемнадцать мер» были
предназначены для преувеличенного обособления Израиля, как например: запрещение
покупать самые необходимые вещи у язычников, запрещение говорить на их языке,
принимать их свидетельства, их приношения, запрещение приносить жертвы
императору. Впоследствии сожалели о введении многих из этих предписаний; стали
даже утверждать, что день, в который они были приняты, настолько же гибелен для
Израиля, как и день, в который они воздвигли золотого тельца; но они не
уничтожили их. Вот легендарный разговор, выражающий чувства двух партий, на
которые был разделен еврейский народ по этому поводу. «Сегодня наполнили меру»,
— сказал рабби Елиазар. «Сегодня ее переполнили», — сказал рабби Иониза.
«Бочка, полная орехов», — сказал рабби Елиазар, — может вместить желательное
количество кунжутного масла». «Когда в вазу, наполненную маслом, наливают воды,
то проливают масло», сказал рабби Иониза. Несмотря на все протесты, восемнадцать
мер получили такой авторитет, что стали утверждать, что никакая власть не могла
их уничтожить. Возможно, что некоторые из этих мер были внушены глухой
оппозицией христианству и в особенности либеральным проповедям св. Павла.
Очевидно, чем более христиане стремились сделать их непреодолимыми.
Этот контраст сказывался особенно чувствительно в том, что касалось
новообразуемых прозелитов. Евреи не только не стремились приобрести их, но
чувствовали плохо скрытое недоверие к этим новым братьям. Хотя еще не говорили,
что «новообращенные — это проказа Израиля»; но не только не поощряли, а,
наоборот, отговаривали их, указывая на опасности и трудности, которым
подвергаются
присоединяющиеся к презираемому народу. В то же время сильно возрастает
ненависть к Риму. Замыслы, питаемые по отношению к нему, — замыслы крови и
убийства.
Но, как всегда в течение своей длинной истории, Израиль заключал в себе
прекрасное меньшинство,
протестовавшее против ошибок большинства. Великая двойственность, всегда
лежавшая в основах жизни этого странного народа, продолжалась. Обаятельность и
мягкость хорошего еврея были вне всякого упрека.
Шаммая и Гиллель, хотя и давно умершие, как бы стояли во главе двух
противоположных семей, — одной, представлявшей недоброжелательную мелкую
сторону, и другой — представлявшей широкую, добродетельную, идеалистическую
сторону религиозного
гения Израиля. Контраст был поразителен. Смиренные, вежливые, ласковые, всегда
ставившие чувства других выше своих, гиллелиты руководствовались, подобно
христианам, принципом: что Бог возвышает того, кто смиряется, и унижает того,
кто возвеличивается; что величие бежит от того, кто его ищет, и ищет того, кто
от него бежит; тот кто хочет ускорить время, ничего от него не получает, тому
же, кто умеет выжидать, время служит помощником.
У имеющих действительно верующую душу по временам появляются особо смелые
чувства. С одной стороны, либеральная семья Гамалиилов в своих сношениях
с язычниками по
принципу ухаживала за их больными, вежливо им кланялась, даже в то время, когда
те поклонялись своим идолам, отдавали последний долг их мертвым, стремились
смягчить положение дел. Стремясь к мирному исходу, эта семья вступила в
сношения с римлянами. Она не постеснялась просить у победителей некоторого рода
инвеституры — предательство синедриона — с их согласия вновь принять титул
«наси». С другой стороны, чрезвычайно либеральный человек, Иоханан-бен-Заккай,
был душой происходившей перемены. Еще задолго до разрушения Иерусалима он
пользовался преобладающим авторитетом в синедрионе. Во время революции он был
одним из вождей умеренной парии, державшейся вне политики, и делал все
возможное, чтобы не затягивать сопротивления, которое должно было привести к
разрушению храма. Спасшись из Иерусалима, он предсказал, как рассказывают,
императорский титул Веспасиану; одной из милостей, им испрашиваемых, была
просьба послать доктора к больному Садоку, который в годы, предшествовавшие
осаде, разрушил постом свое здоровье. По-видимому, достоверно то, что он попал
в милость к римлянам и добился у них восстановления синедриона в Явнее.
Сомнительно, чтобы он был учеником Гиллеля, но он, действительно, был
продолжателем его идей. Устанавливать царство мира было его любимым правилом.
Известно, что никто не успевал поклониться ему первым, даже язычники на рынке.
Не будучи христианином, он был истинным последователем Иисуса. Говорят, что по
примеру древних пророков, он по временам упразднял культ, признавая, что для
язычников справедливость имеет то же значение, как жертва для евреев.
Таким образом, некоторое облегчение проникло в страшно потрясенную душу
Израиля. Фанатики решались проникать, с опасностью жизни, в молчаливый город и
тайком приносили жертвы на развалинах святая святых. Некоторые из этих
сумасшедших, возвращаясь обратно, рассказывали, что слышали таинственный голос,
исходящий из развалин и сообщавший им, что их жертвы приняты. Но вообще
подобные излишества порицались. Некоторые воспрещали всякие развлечения и
проводили время в слезах
и посте, пили только воду. Иоханан-бен-Заккай их утешал. «Не горюй, сын мой», —
говорил он одному из отчаявшихся. «За невозможностью приносить жертвы, у нас
осталось еще средство искупить наши грехи, которое стоит первого — это добрые
дела». И он напоминал, слова Исайи: «Я более люблю благотворительность, чем
жертву». Рабби Иошоа имел такие же взгляды. «Друзья мои», говорил он тем,
которые вменяли себе в обязанность преувеличенные лишения, «зачем вам
воздерживаться от мяса и вина?» — «Как?» — отвечали ему, — «мы будем есть мясо,
которое приносилось в жертву на разрушенном теперь алтаре? Мы будем вино,
которым делались возлияния на тот же алтарь?» — «Хорошо», — отвечал рабби
Иошоа, — «не будем есть хлеба, так как нельзя приносить в жертву муки!» —
«Действительно, можно питаться фруктами». — «Что вы говорите? Фрукты также не
дозволены, ведь теперь более нельзя приносить в жертву храму первых плодов».
Сила обстоятельств брала верх. Прочность Закона теоретически признавалась,
причем утверждалось, что и сам Илья не мог бы уничтожить ни одного параграфа;
но фактически разрушение храма уничтожало значительную часть древних
предписаний, не осталось места ни для чего иного, как только для казуистической
морали в деталях или для мистицизма. Развитие кабалистики принадлежит
позднейшему времени. С тех пор многие предавались так называемым «видениям
колесницы», т. е. размышлениям о таинствах, которые связывали с символами
Езекиила. Еврейский ум усыплял себя грезами, создавал себе убежище вне
ненавистного ему мира. Изучение становилось освобождением. Рабби Nehounia
пустил в ход идею: тот, кто подчиняет себя игу Закона, освобождается от ига
политики и мира. Кто дошел до этого, тот уже не опасный революционер. Рабби
Nanina имел привычку говорить: «Молитесь за существующее правительство, без
него люди съели бы друг друга».
Нищета была ужасная, подушная подать лежала бременем на всех, а источники
доходов были истощены. Гора Иудеи оставалась необработанной и покрытой
развалинами. Сама собственность была ненадежна. Обрабатывая ее, рисковали
видеть ее отобранной римлянами. Иерусалим представлял из себя кучу сваленного
камня. Несомненно, в то время изгоняли евреев, пытавшихся селиться
значительными группами на этих развалинах. [Нет подлинного описания этой эпохи.
Но несомненно, если бы у евреев была возможность поселиться в разрушенном
городе, они бы это сделали. Но они селятся в Явнее, Бетаре и др., где и
скопляются. Предположение Евсевия, по которому Иерусалим был запрещен евреям,
только начиная с Адриана (Demonstr. evang., VI, 18), не имеет никаких
оснований. См. «L'Antechrist», стр. 523, прим. 2.] Между прочим, историки,
наиболее других настаивающие на том, что город был вполне разрушен, признают,
что там осталось некоторое число стариков и женщин. Иосиф сидящих и плачущих на
пепелище святилища, вторых — взятыми победителями себе для крайнего поругания.
10-й легион продолжал стоять в одной из частей покинутого города.
[Предполагали, что имеют доказательство насмешки победоносного легиона над
побежденными в вещах, помеченных этим легионом клеймом со свиньей. Но свинья —
римская эмблема легионов и не заключает в себе никакой насмешки.] Найденные
кирпичи покинутого города с маркой этого легиона указывают на то, что он
занимался постройкой. Вероятно, солдаты за плату допускали тайные посещения еще
видимых остатков храма. В особенности христиане сохраняли память и культ
некоторых мест, преимущественно трапезной на Синайской горе, где, как верили,
собрались последователи Иисуса после его вознесения, и могилу Иакова, брата
Господня, возле храма. По всей вероятности, не забывали Голгофу. Так как ни в
городе, ни в окрестностях не строили, то огромные каменные части больших
сооружений оставались на своих местах, так что легко было узнать все памятники.
Изгнанные из святого города и дорогой для них земли, евреи разбрелись по
городам и деревням долины, простирающейся у подножья горы Иудеи до моря.
Еврейское население умножилось. В особенности одно место стало театром
возрождения и было
столицей еврейской теологии до войны Бар-Кохбу. Это был прежний филистимский
город Явнея или Ямния (теперь деревня, это Ибелин крестоносцев), расположенный
в четырех с половиной милях от Яффы. [Как и другие города филистимлян, он имел
свой порт или maiouma на расстоянии полутора мили.] Это был значительный город,
населенный язычниками и евреями, но последние преобладали, несмотря на то, что
со времени похода Помпея, этот город уже не входил в состав Иудеи. Там
происходила живая борьба между обеими частями населения. Пищевые продукты там
находились в изобилии, и в начале блокады многие из мирных ученых, как
например, Иоханан-бен-Заккай, не находившиеся под влиянием национальной химеры,
укрылись в Явнее. Там они и узнали о пожаре храма; они рыдали, рвали на себе
одежды, погрузились в траур, но находили еще возможность жить для того, чтобы
видеть, уготовил ли Бог какое-нибудь будущее Израилю. Говорят, что благодаря
просьбам Иоханана, Веспасиан пощадил Явнею и ее ученых. [Есть некоторое
несогласие в летоисчислении. Обстоятельства побега Иоханана, предполагают, что
город был уже блокирован. Между тем, в то время Веспасиан не был уже в Иудее, а
в 67—68 г., наоборот, он проходил через Явнею.] В действительности же еще
до войны с Явнеей процветала раввинская школа, и, по каким-то неизвестным
причинам, в политику римлян входило не препятствовать ее существованию. С
прибытием Иоханана-бен-Заккая эта школа приобрела наиболее важное значение.
Рабби Гамалиил младший довел до высшего предела известность Явнеи, когда
после того, как рабби Иоханан
— причины соперничества этих двух ученых неясны — удалился в Berour-Hail
(деревня, расположенная недалеко от Явнеи, по-видимому, по направлению к
Kulonie), принял управление его школой. С этого времени Явнея становится первой
еврейской академией в Палестине. [В списке переселений синедриона, составленном
еврейским преданием, первое место занимает переселение из Иерусалима в Явнею.]
Туда из разных местностей евреи шли на праздники, как раньше ходили в
Иерусалим, и как в былые времена пользовались путешествием в святой город,
чтобы узнать мнение синедриона и школ в сомнительных вопросах, так и в Явнее
трудные вопросы предлагали на разрешение beth-din. Этот трибунал называли редко
называли старинным именем синедриона, что было бы неправильно, но он имел
неоспоримый авторитет; ученые всей Иудеи по временам собирались там и придавали
тогда beth-din характер верховного суда. Впоследствии еще долго сохранялось
воспоминание о фруктовом саде, где происходили заседания этого трибунала, и о
голубятне, в тени которой сидел председатель.
Таким образом, Явнея представлялась как бы маленьким возрождением
Иерусалима. По привилегиям и религиозным обязанностям ее вполне уподобляли
Иерусалиму; на ее
синагогу смотрели как на законную наследницу Иерусалимской синагоги и как на
центр нового религиозного авторитета. Сами римляне применились к этому взгляду
и даровали «наси» или «ab-beth-din» Явнеи официальный авторитет. Это было
началом еврейского патриархата (сомнительно, чтобы официальный титул
существовал в эпоху, о которой мы говорим; тем не менее обратите внимание на
письмо Адриана в Vopiscus, Saturn., 8 (ipse illi patriarcha)), который
впоследствии развился в учреждение, подобно христианскому патриархату нашего
времени в оттоманской империи. Подобные должности, одновременно религиозные и
гражданские, даруемые политической властью, были у великих империй Востока
постоянным средством избавиться от забот о своей райе. Существование подобного
единоличного учреждения не представляло никакой опасности для римлян, особенно
в городе частью языческом и римском, где евреи сдерживались военной силой и
антипатией основного нас6ления. Религиозные беседы между евреями и не-евреями
по-видимому часто происходили в Явнее. Предание изображает нам
Иоханана-бен-Заккая ведущего частые споры с неверными, объясняющим им Библию и
еврейские праздники. Его ответы нередко уклончивые, и среди своих последователей
он посмеивается над малоудовлетворительными ответами, которые он давал
язычникам.
Школы Лидды соперничали со школами Явнеи, или в некотором роде были их
отделениями. Явнея и Лидда отстояли друг от друга на четыре мили, и когда
кого-нибудь отлучали в Явнее, отправлялся в Лидду. Все деревни данитские и
филистимские, морской долины: Berour-Hail, Bakiin, Gibton,
Gismo, Bene-Berak, расположенные на юге от Антипатрии и которые
прежде еле считались принадлежащими к Святой Земле, в равной мере теперь
послужили убежищем для знаменитых ученых. Также и в Даром и в южную часть
Иудеи, расположенную между Eleutheropolis и Мертвым морем, прибыло много
еврейских беглецов. Эта богатая страна лежала вдали от дорог, посещаемых
римлянами, и почти на границе их господства.
Очевидно, что течение, повлекшее в последствии раввинизм в Галилею, еще не
сказалось. Были исключения: рабби Елиазар-бен-Иаков, редактор первых Мишна,
по-видимому был галилеянином. Около 100-го года уже можно было встретить
мишнических ученых в Галилеи и Цезарии. Но только после похода Адриана,
Тивериада и верхняя Галилея сделались по преимуществу странами Талмуда.
Глава II. Бетар, книга Иудеи, еврейский канон
С первых же годов войны, по видимому, образовался около Иерусалима
населенный пункт, который через пятьдесят-шестьдесят лет позже должен быть
играть важную роль. В двух с четвертью милях на восток — юго-восток от
Иерусалима[1] находилась малоизвестная
деревня Бетар[2]. Кажется, значительное
число лет до осады большое количество богатых и мирных буржуазных семейств
Иерусалима, предвидя бурю, долженствующую разразиться над столицей, купили себе
там земли, чтобы иметь куда укрыться. Бетар, действительно, был расположен в
плодородной долине в стороне от важных дорог, соединявших Иерусалим с Севером и
морем. Господствовавший над городом акрополь, построенный у прекрасного
источника, представлял естественное укрепление; нижнее плато служило местом
расположения нижнего города. После катастрофы 70-го года значительная масса
эмигрантов собралась там. Они учредили синагоги, синедрионы и школы. Бетар
скоро превратился в святой город, в некотором роде заменивший Сион. Крутой холм
покрылся домами, опирающимися на древние работы в скале и естественные
расположения холма, таким образом, что они составили род цитадели, дополненной
потом рядом больших каменных глыб. Удаленное положение Бетара дает право
думать, что римляне не были озабочены этими работами; возможно также, что часть
работ была произведена раньше осады Тита[3]. Поддерживаемый еврейскими общинами Явнеи и Лидды,
Бетар стал довольно большим городом и укрепленным лагерем фанатизма в Иудее. Мы
увидим там иудейство, дающее последнее и безнадежное сражение могуществу
римлян.
По-видимому, в Бетаре была составлена редкая книга, полное отражение души
Израиля того времени; в ней находятся богатые воспоминания прежних поражений и
предчувствие яростных восстаний в будущем: я говорю о книге Юдифь[4]. Пламенный патриот, составивший эту агаду
по-еврейски[5], заимствовал, согласно
обычаю еврейских агад, хорошо известную историю Деборы, спасающей Израиля от
его врагов убийством их вождя (см. Книгу Судей, IV, 9). В каждой
строке проскакивают прозрачные намеки. Древний враг божьего народа
Навуходоносор (точный тип римской империи, который по греческим понятиям, был
создан пропагандой язычества (вспомните Апок. Иоанна, IV, 9) хочет
подчинить себе весь мир и принудить обожать себя вместо всех богов. Он поручает
своему полководцу Олоферну (это имя персидское; автор не стесняется
анахронизмом) выполнить это предприятие. Все преклоняются, кроме еврейского
народа. Израиль, хотя и не воинственный, но гордый народ, было трудно
принудить. Он непобедим, пока соблюдает закон.
Разумный язычник Ахиор (брат света) знающий израильский народ, старается
остановить Олоферна. Первым делом, по его мнению, следовало узнать, нарушил ли
закон Израиль; если да, то его легко победить, если нет, надо остерегаться
нападать на него. Но все напрасно; Олоферн идет на Иерусалим. Ключем к
Иерусалиму служит один пункт, расположенный около Дофаима, при входе в гористую
местность, на юге долины Ездрилон. Это место называлось Beth-eloah
(Божий дом)[6]. Автор описал его точно по
образцу Бетара. Он расположен при входе в теснину, на горе, у подошвы которой
бьет ключ, необходимый для жителей, так как цистерны верхнего города
незначительны. Олоферн осаждает Beth-eloah, который доведен жаждой до
крайнего положения. Но высший промысел предпочитает набирать более слабых для
совершения великих подвигов. Вдова зилотка, Юдифь (иудейка), встала, помолилась
и, выйдя из города, представилась Олоферну, как строго набожная женщина, не
могущая выносить тех нарушений Закона, свидетельницей которых она была в
городе, и обещала ему указать верное средство победить евреев. «Они теперь
умирают от жажды и голода», — говорила она, — «что вынудило их нарушить
предписание о съестных продуктах и есть первые плоды, предназначающиеся
священникам, они послали в Иерусалим просит разрешение синедриона, но в
Иерусалиме народ также распущенный и там им разрешат; и тогда будет легко
победить осажденных». «Я буду молиться Богу,» — прибавляет она, — «чтобы он
сообщил мне, когда они согрешат». В то время, когда Олоферн вполне убедился в
ее готовности на все, она отрубила ему голову. В течение всего своего
путешествия, она ни разу не нарушила Закона. Она молилась и совершала свои
омовения в назначенное время; она ела только то, что захватила с собой; даже
тогда, когда пришла разделить ложе Олоферна, она пила свое вино. После
совершения своего подвига Юдифь живет еще сто пять лет, счастливая и уважаемая,
отказываясь от самых выгодных предложений вступить в брак. В течение ее жизни и
еще долго после нее никто не осмеливался беспокоить еврейский народ. Ахиор тоже
был вознагражден за свое знание еврейского народа. Он принял обрезание и стал
на вечные времена потомком Авраама.
Автор, по своей склонности воображать превращение язычников, своей
уверенностью, что Бог
любит слабых, что он по преимуществу Бог отчаявшихся, приближается к
христианам. Но по своей привязанности к букве Закона, он представляет собой
чистого фарисея. Он мечтает об автономии израильтян под главенством синедриона
и их наси. У него тот же идеал, что и в Явнее, согласно которому существует
такой образ жизни людей, который угоден Богу; Закон составляет безусловное
правило для этого строя; Израиль создан для того, чтобы выполнить его. Это
народ, которому нет подобного; народ, ненавидимый язычниками, знающими, что он
способен увлечь весь мир. Народ непобедимый, если он не грешит. К строгости
фарисея присоединяется фанатизм зилота; призыв к мечу для защиты Закона; апология
наиболее кровавых примеров религиозного насилия. Подражание книге «Эсфирь»
проникает весь труд; автор читал эту книгу не в том виде, в каком она
существует в еврейском оригинале, а с искажениями, заключающимися в греческом
тексте. Литературное исполнение слабо; заурядные избитые слова еврейской агады,
гимны, молитвы и т. п., напоминающие по временам тон Евангелия
Св. Луки. Однако теория мессианских ожиданий слабо разработана. Юдифь за
свои добродетели по-прежнему награждается долгой жизнью. Эта книга, вероятно, с
увлечением читалась в кругах Бетара и Явнеи; но, по-видимому, Иосиф не был
знаком с ней в Риме; ее, несомненно, скрывали в виду того, что она заключала в
себе много опасных намеков. Успех этого произведения среди евреев, однако, был
непродолжителен; еврейский оригинал вскоре затерялся, но греческий перевод
получил место в христианском каноне. Мы увидим, что этот перевод был уже
известен в Риме в 95 году. Вообще, все апокрифические работы имели успех,
признавались и цитировались непосредственно после выхода в свет. Эти новинки
имели эфемерную скоропроходящую славу и быстро забывались.
Все более и более чувствовалась потребность в точном каноне священных книг.
Тора, пророки, псалмы были всеми признаны основой. Только Иезекииль вызывал
затруднения некоторыми параграфами, несогласными с Торой. Из затруднения вышли
при помощи остроумных объяснений. Были колебания и по поводу Иова, смелость
которого не соответствовала пиитизму того времени. Притчи, Экклезиаст и «Песнь
песней» выдержали еще более горячее нападение. Свободная картина, набросанная в
седьмой главе Притчей, профанирующий характер «Песни песней», скептицизм
Экклезиаста, по-видимому, должны были лишить эти книги имени священных. Однако,
восторг, внушаемый ими, к счастью взял верх. Их приняли, если можно так
выразиться, с правом поправок и толкований. Последние строки Екклезиаста,
по-видимому, смягчали скептическую неблагопристойность текста. Стали искать в
«Песне песней» мистических глубин. Псевдо-Даниил завоевал себе место смелостью
и самоуверенностью, но он не мог прорваться через непроницаемую цепь древних
пророков и поместился на последних страницах рядом с книгой «Эсфирь» и
позднейшими историческими компиляциями (см. порядок еврейских Библий). Сын
Сирахов потерпел поражение только благодаря откровенным признаниям современного
текста. Все это составляет небольшую священную библиотеку
в 24 произведения, порядок которых был неизбежно установлен. Но еще
существовало много вариантов (отступления, которые замечаются в разных
вариантах, служат тому доказательством); благодаря отсутствию гласных, к
сожалению, во многих параграфах встречались двусмысленности, которыми различные
партии пользовались, каждая в духе своих идей. И только несколько веков позже
еврейская Библия представляла одну книгу, почти без вариантов, чтение которой
было установлено до мелких подробностей.
Что касается книг, исключенных из канона, то их запретили читать и по
возможности уничтожали. Этим и объясняется, почему сохранились только в
греческом переводе книги вполне еврейские, имевшие не меньше прав, чем книга
Эсфирь и Даниил быть включенными в Библию. Таким образом, книги Маккавейские,
книга Товита, книга Еноха, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, книга Варуха, так
называемая третья книга Ездры, разные дополнения (трое юношей в раскаленной
печи, Сусанна, красавица и дракон), присоединяемые к книге Даниила, молитва
Манасии, послание Иеремии, псалтырь Соломона, вознесение Моисея, целая серия
агадических и апокалиптических писаний, заброшенных талмудистами, были
сохранены только
христианами. Благодаря общности литературы евреев и христиан, продолжавшейся
более ста лет, всякая еврейская книга, проникнутая религиозным духом или идеями
мессианизма, немедленно принималась церквями. Со второго столетия еврейский
народ предавался исключительно изучению Закона и, предпочитая всему остальному
казуистику, пренебрегал всеми этими писаниями. Многие же из христианских
церквей, наоборот, придавать им большое значение и более или менее официально
принимали их в свой канон. Мы увидим, например, далее, что апокалипсис Ездры,
произведение экзальтированного еврея, как и книга «Юдифь», спаслись от
уничтожению только благодаря уважению, которыми они пользовались среди
последователей Иисуса.
Иудейство и христианство еще жили вместе, подобно двум близнецам, часть
организмов которых
между собой тесно связана, а во всем остальном различны между собой. Одно
существо отчасти передавало свои ощущения и желания другому. Книга, являвшаяся
продуктом наиболее горячих еврейских страстей и, в особенности, книга зилота,
немедленно принимались христианством, сохранялись христианством и благодаря ему
находили место в общем каноне Ветхого Завета. [Подобное же размышление может
быть сделано и по поводу вполне еврейской книги Товита; но время, когда эта
книга написана, очень трудно определить.] Часть христианской церкви,
несомненно, почувствовала все волнения осады и разделяла страдания и гнев
евреев по поводу разрушения храма и сохраняла симпатию к восставшим. Автор
Апокалипсиса, который еще, вероятно, жил в то время, конечно, сохранил печаль в
своем сердце и подсчитывал, когда настанут дни великого отмщения Израиля. Но
христианское чувство нашло уже новый выход; и не только школа Павла, но и сама
семья Учителя переживала необычайный кризис, изменяя сообразно потребностям времени
сами воспоминания, которые она сохранила об Иисусе.
Глава III. Эвион за Иорданом
Мы видели, как в 68 году христианская церковь в Иерусалиме,
управляющаяся родными Иисуса, бежала из города, преданного ужасам, и укрылась в
Пелле, на другой стороне Иордана. Мы видели автора Апокалипсиса, через
несколько месяцев, наиболее живым и трогательным образом описывающим как Бог
охранял своим покровительством покой спасшейся церкви, которым она пользовалась
в своей пустыне. Вероятно, пребывание там продолжалось многие годы и после
осады. Возвращение в Иерусалим было невозможно, а антипатия между христианством
и фарисейством была уже слишком сильна для того, чтобы христиане переселились
вместе с большинством еврейской нации в сторону Явнеи и Лидды, и святые
Иерусалима продолжали жить по ту сторону Иордана. Ожидание окончательной
катастрофы достигло высшей степени напряжения. Срок в три с половиной года,
назначенный Апокалипсисом для осуществления его пророчеств, истекал в июле
72 года.
Разрушение храма, несомненно, было неожиданностью для христиан; они не
верили в возможность этого так же, как и евреи. Иногда они представляли себе,
что Нерон Антихрист возвращается от парфян, идет на Рим со своими союзниками и
разоряет его, затем став во главе войск Иудеи, оскверняет Иерусалим и избивает
народ верных, собравшийся на холме Сиона, но никто не думал, что храм исчезнет.
Такое страшное событие должно было потрясти их. Несчастья, выпавшие на долю
еврейского народа, рассматривались как наказание за смерть Иисуса и Иакова[7]. Обдумывая последние события, христиане
пришли к заключению, что во всем этом Бог показал великую милость к своим
избранным. Это только благодаря им он сократил дни, которые, если бы
продолжались, то повели бы к уничтожению всякой плоти. Пережитые ужасные
страдания запечатлелись в памяти христиан Востока и были для них тем же, чем
были гонения Нерона для христиан Рима, «великим горем» (по-еврейски sara
guedola), верной прелюдией наступления дней Мессии.
Между прочим следующий расчет сильно озабочивал христиан в эту эпоху;
обсуждался параграф псалма «о если бы вы ныне послушали гласа Его: не
ожесточайте сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне...
Сорок лет я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся
сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, они не
войдут в покой Мой» (Псалом XCV, 7 и след.). Применяли к
упорствующим то, что касалось возмущения израильтян в пустыне, и так как уже
прошло почти сорок лет короткой, но блестящей общественной жизни Иисуса, то это
именно к неверящим относится настойчивый призыв: «Вот уже сорок лет я жду вас;
время наступило, берегитесь». Несмотря на все эти совпадения, показывающие, что
апокалипсический год приходится в 73-м году, свежие воспоминания революции и
осады, своеобразные припадки горячки, экзальтации и безумия, которые были
пережиты, и — верх чудовищности! — после всех этих ясных признаков люди имели
печальное мужество не слушать голоса Иисуса, призывавшего их; это казалось
невероятным и объяснялось только чудом. Было очевидно приближение минуты, когда
появится Иисус и тайна времен исполнится.
Пока находились под влиянием подобной предвзятой идеи и смотрели на город
Пеллу, как на временное убежище, где сам Бог питал своих избранных и охранял их
от ненависти злых, то, конечно, не думали удалиться из местности, которая, по
их мнению, была указана небесным откровением. Но, когда стало ясно, что надо
примириться с необходимостью жить далее, тогда началось движение в общине;
большое количество братьев, включая и членов семейства Иисуса, покинули Пеллу и
переселились в Ванатею, провинцию, находившуюся в зависимости от Ирода
Агриппы II, но все более и более попадавшую под непосредственную власть
римлян. Эта страна была в то время в цветущем состоянии; она была покрыта городами
и памятниками; господство Ирода было благодетельным, и создало ту блестящую
цивилизацию, которая продолжалась с первого столетия нашей эры до исламизма.
Последователи и родные Иисуса выбрали город Кокабу, по соседству с
d'Astaroth-Carnaim (теперь Tell Aschtereh) недалеко от Адраа (теперь Deraat) и
весьма близко от Набатеев. Город Кокаба находился в
13 или 14 милях от Пеллы, и церкви этих двух мест могли в
течение долгого времени находиться в тесных сношениях. Несомненно, много
христиан еще со времен Веспасиана и Тита возвратились в Галилею и Самарию
(см. выше), но только после Адриана Галилея стала местом встречи
еврейского народа, и в ней сосредоточилась интеллектуальная жизнь нации.
Эти благочестивые хранители предания об Иисусе называли эвионим или «нищими»
(по-гречески ptohos). Верные духу того, который сказал «Блаженны нищие!» и
который предоставлял обделенным этого мира царство небесное и Евангелие, они
гордились своим нищенством и продолжали, подобно первобытной церкви Иерусалима,
жить милостыней. Мы видели св. Павла в постоянной заботе о бедных
Иерусалима, а Иакова признающим название «бедный», как титул благородства. Во
многих местах Ветхого Завета слово эвион употребляется для обозначения
благочестивого человека, и путем
распространительного толкования все благочестье израильтян и все святые
Израиля, слабые, кроткие, смиренные, презираемые миром, но любимые Богом были
отнесены к секте. Слово «бедный» придавало оттенок важности, как и теперь когда
мы говорим «бедный голубчик». «Божий бедный», чье несчастье и унижение
рассказывали пророки и псалмопевцы и которому предсказывали великую будущность,
признавался символическим указанием на маленькую заиорданскую церковь в Пелле и
Кокабе, являвшуюся продолжением иерусалимской церкви. Также как и в древнееврейском
языке, слово эвион получило метафорический смысл для обозначения благочестивой
части народа Божия, так и маленькая святая религиозная община в Ватанее, считая
только себя настоящим Израилем, «Божиим Израилем», наследником царства
небесного, называла себя нищим, любимцем Бога. Таким образом, слово эвион
употребляется часто в коллективном смысле, в том же смысле, как употреблялось
слово Израиль и как мы употребляем выражение «добродушный Жак» (Jacques
Bonhomme). В отдаленных же местах церкви, для которых нищие Ватанеи скоро
стали чужды, Эвион превратился в человека, которому приписывалось основание
секты эвионитов.
У других народностей наши сектанты слыли под именем назарян или назариан;
было известно, что Иисус, его родные и первые последователи из Назарета и
ближайших его окрестностей, — их и называли по месту происхождения.
Предполагали, может быть, не без основания, что название относилось, главным
образом, к христианам Галилеи, укрывшимся в Ватанее, тогда как слово эвион
продолжало быть названием, которое давали сами себе святые нищие Иерусалима. Во
всяком случае «назаряне» превратилось на Востоке в родовое слово для
обозначения христиан; Магомет не знал другого имени и мусульмане употребляют
его до сих пор. По странной противоположности, имя назаряне через некоторое
время, как и имя эвиониты, приобрело неблагоприятный смысл у греческих и
латинских христиан. В христианстве произошло то, что происходит почти во всех
великих движениях:
основатели новой религии в глазах чуждой им массы, присоединившейся к ним,
оказались отсталыми еретиками; те, которые составляли ядро секты, остались
изолированными и без почвы. Слово эвион, которым они себя называли и
имевшее для них самый высокий смысл, превратилось в обидную кличку и вне Сирии
стало равнозначащим опасному сектанту; его употребляли в виде насмешки,
иронически придавая ему значение «нищие умом». Античное название «назаряне» с
IV-го века даже в правоверной кафолической церкви стало обозначением еретиков,
почти не христиан.
Это удивительное недоразумение объясняется, когда обратим внимание на то,
что эвиониты и назаряне остались верными первоначальному духу церкви Иерусалима
и братьев Иисуса, согласно которой Иисус был только пророком, избранным Богом
для спасения Израиля, тогда как в церквях, ведущих свое начало от Павла, Иисус
все более и более становился воплощением Бога. Согласно греческим христианам,
христианство заменило религию Моисея, как высший культ низший. В глазах
христиан в Ватанее это являлось богохульством. Они не только не считали Закона
уничтоженным, а, наоборот, соблюдали его с двойным усердием. Они считали
обрезание обязательным, праздновали шабаш одновременно с воскресением. Они
старательно изучали еврейский язык и Библию читали на еврейском языке. Их
каноном был еврейский канон, и может быть, они уже начали делать в нем
произвольные отступления.
Обожание Иисуса у них было беспредельное; они его называли пророком правды,
Мессией, сыном Бога, избранником Божиим; они верили в его воскресение, но для
этого не покидали еврейской идеи, по которой человек-Бог — чудовищность. Иисус,
по их понятиям, был простым человеком, сыном Иосифа, рожденным при обыкновенных
человеческих условиях, без всякого чуда. Уже позже, они стали объяснять
рождение Иисуса
действием св. Духа. Некоторые признавали, что в тот день, когда он был
усыновлен Богом, божественный дух или Христос снизошел на него в виде голубя,
так что Иисус стал сыном Бога и помазанником св. Духа только после своего
крещения. Другие, еще более приближаясь к буддийским понятиям, предполагали,
что он приобрел сан Мессии, сына Божия, своим совершенством, последовательным
успехом, единением с Богом и, в особенности, подвигом точного соблюдения всего
Закона. Если верить им, то только один Иисус разрешил эту трудную задачу. Когда
их заставляли дойти до конца, они признавали, что всякий человек, совершивший
тот же подвиг, получил бы ту же почесть. Поэтому они старались в своих
рассказах о жизни Иисуса изобразить его исполняющим весь Закон; правильно или
нет, но они вкладывали в его уста следующее изречение: «Я пришел не уничтожить
Закон, а исполнить его». Многие склонные к гностическим и каббалистическим
идеям, видели в нем великого архангела, первого среди ангельских чинов своего
класса, сотворенного, которому Бог дал власть над всем сотворенным и которому он
специально поручил уничтожить жертвоприношения.
Их церкви назывались «синагогами», их священники — «архисинагогами».
Они запрещали употребление мяса и придерживались всевозможных воздержаний, —
хасидизм,
которые, как известно были главной частью святости Иакова, брата Господня.
Иаков был для них образцом святости. Петр также пользовался их уважением. И под
именем этих двух апостолов они выпускали все свои апокрифические откровения. И,
наоборот, не было проклятия, которого они не произнесли бы по адресу Павла. Они
называли его «человеком из Тарса», «вероотступником»; разыскивали о нем самые
смешные истории; говорили, что он не вправе называться евреем, утверждая, со
стороны отца и матери его предками были только язычники. Настоящий еврей,
толкующий об уничтожении Закона, представлялся им абсолютной невозможностью.
Мы скоро увидим в литературе проявление этих идей и страстей. Добрые
сектанты Кокабы упорно
поворачивались спиной к Западу и будущему. Их взоры были постоянно направлены в
сторону Иерусалима, на чудесное восстановление которого они надеялись. Так как
они называли его «Божьим домом» и поворачивались к нему во время молитвы, то
надо полагать, что они имели по отношению к нему своего рода обожание.
Проницательный взор мог бы уже тогда заметить, что они на пути к ереси и
наступит день, когда их будут считать нечестивцами в доме, ими же созданном.
В действительности, полное различие существовало между христианством
назарян, эвионитов, родных Иисуса и христианством, которое восторжествовало
впоследствии. Для непосредственных подражателей Христа дело заключалось не в
замене иудейства, а в увенчания пришествия Мессии. Христианская церковь была
для них только собранием хасидов, истинных израильтян, признающих, кроме
саддукеев, представлявшийся для всякого еврея весьма сомнительным факт, что
Иисус, умерщвленный и воскресший, был Мессия и в скором времени должен опять
явиться и восстать на трон Давида в исполнение пророчества. Если бы их обвинили
в отступничестве от иудейства, они, возмутившись, возразили бы, что они —
настоящие евреи, наследники обетов. Отказ от Моисеева закона, согласно их
взглядам, был бы равносилен вероотступничеству. Они не предполагали
освободиться от него сами и не думали освобождать других. Они хотели положить
начало полному торжеству иудейства, а не новой религии, отменяющей
провозглашенную на Синае.
Возвращение в святой город им было закрыто, но так как они надеялись, что
препятствия будут существовать недолго, то наиболее видные члены церкви
продолжали держаться вместе и называли себя иерусалимской церковью. Со времени
пребывания в Пелле, они выбрали преемника Иакову, брату Господню и, совершенно
естественно, их выбор пал на одного из членов семейства Учителя. Ничего нет
более неясного, как то что касается роли братьев и кузенов Иисуса в
иудео-христианской церкви в Сирии. Некоторые указания дают повод думать, что
Иуда, брат Господа и Иакова, был в течение некоторого времени главой
иерусалимской церкви, но трудно сказать, когда и при каких обстоятельствах. Все
предания указывают на
Симеона, сына Клеопы, как на непосредственного преемника Иакова в управлении
иерусалимской церковью. Все братья Иисуса, по всей вероятности, уже умерли до
75 года. Иуда оставил после себя детей и внуков. Но по неизвестным нам
мотивам, главу церкви выбрали не из потомства братьев Иисуса, а последовали
восточному обычаю наследования. Симеон, сын Клеопы, по все вероятности, был
последним из оставшихся в живых двоюродных братьев Иисуса с отцовской стороны.
Он, будучи ребенком, мог видеть и слышать Иисуса. Хотя и по ту сторону Иордана,
Симеон все-таки считал себя главой иерусалимской церкви и наследником той
особой власти, которую этот сан дал Иакову, брату Господню.
Далеко неточные сведения имеются о возвращении избранной церкви (или,
вернее, одной
части ее) в город, одновременно преступный и святой, который был очевидцем
распятия Иисуса, и тем не менее, должен был стать престолом его будущей славы.
Самый факт возвращения — вне сомнений. Но в какую эпоху произошло переселение,
неизвестно. В крайнем случае, можно отодвинуть это событие к моменту, когда
Адриан решил восстановить город, то есть к 122 году, но, более вероятно,
оно произошло после полного успокоения Иудеи. Римляне, несомненно, ослабили
свою строгость к таким мирным людям, какими оказались последователи Христа.
Несколько сотен святых могли жить на Сионской горе в своих домах, пощаженных
разрушением, а город по прежнему считался местом опустошения и развалин.
Десятый легион, Treitensis, сам по себе уже составлял некоторую группу
населения вокруг Сиона. Гора Сион, как мы уже говорили, представляла собой
нечто исключительное в общем виде города. Трапезная апостолов, многие другие
здания и в особенности семь синагог, стояли одиноко; одна из них сохранилась до
времен Константина почти неповрежденной и напоминала строфу из Исайи: «И
осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике». Это именно там, вероятно и
устроилась маленькая христианская колония, которая была продолжением
иерусалимской церкви. Если угодно, можно предполагать также, что она находилась
в одном из маленьких еврейских местечек, расположенных по соседству с
Иерусалимом, подобных Бетару, который мысленно отождествляли со святым городом.
Во всяком случае, церковь горы Сион до времен Адриана была малочисленной. Сан
главы иерусалимской церкви, по-видимому, представлял собой не более, как
почетное первосвященство, не подразумевавшее настоящего пастырства душ. Родные
Иисуса, вероятно, остались за Иорданом.
Честь пребывания в ней среди таких выдающихся лиц внушала церкви Ватанеи
чрезвычайную гордость. Возможно, что некоторые из двенадцати, то есть из
апостолов, выбранных Иисусом, как, например, Матфей, были еще живы и
участвовали в переселении. Некоторые из апостолов могли быть гораздо моложе
Иисуса, а потому не
очень стары в то время. Но данные, имеющиеся у нас об оставшихся дома
апостолах, то есть о тех, которые не покинули Иудеи, не последовали примеру
Петра и Иоанна, так неполны, что нельзя ничего определенного сказать. «Семь»,
то есть диаконы, выбранные первой церковью Иерусалима, вероятно, также умерли
или рассеялись. Родные Иисуса наследовали все значение, которое имели
избранники основателя, избранники первой Трапезы.
С 70 до 110 года, приблизительно, они управляли
заиорданскими церквями и составляли нечто вроде христианского сената. Семейств
Клеопы в особенности пользовалось в этих благочестивых кругах всеми признанным
авторитетом.
Эти родственники Иисуса были благочестивыми, мягкими, тихими и скромными
людьми, живущими трудами рук своих, верными исполнителями самых строгих
иисусовых принципов бедности. Но в то же время они оставались вполне евреями и
считали титул сына Израиля выше всех других преимуществ. Они пользовались
большим почетом и им давали название (maranin или maranoie), быть
может равнозначащее греческому desposusoi.
Весьма рано, по всей вероятности еще при жизни Иисуса, стали предполагать,
что он потомок Давида, так как признавалось что Мессия должен быть из рода
Давидова; признание подобного происхождения для Иисуса распространялось и на
родных его, чем эти добродушные люди были сильно озабочены и немного гордились.
Они постоянно занимались составлением родословных, придающих вероятность
легкому обману, необходимому для христианской легенды. Встречая слишком большие
затруднения, ссылались на гонения Ирода, во время которых, как утверждали, все
генеалогические книги были уничтожены. При этом не было установлено точной и
определенной системы: одни утверждали, что генеалогия установлена по памяти,
другие, — что для ее восстановления пользовались копиями древних хроник, и
признавали, что все сделано «насколько можно лучше». Две из подобных генеалогий
дошли до нас, одна в Евангелии, приписываемом св. Матфею, другая — в
Евангелии св. Луки; по-видимому, они не удовлетворяли эвионитов, так как
ни одна из них не была включена в их евангелие, а сирийские церкви всегда
протестовали против этих генеалогий.
Вышеупомянутое стремление, хотя и вполне безобидное в политическом отношении
вызывало, однако, подозрение. По-видимому, римские власти не раз обращали
внимание на истинных или предполагаемых потомков Давида. Веспасиан слышал, что
евреи возлагают свои надежды на какого-то таинственного представителя древнего,
царского рода. Боясь, не послужило бы это поводом для новых восстаний, он, как
говорят велел
разыскать всех, кто, по-видимому, принадлежал к царскому роду или хвастал этим.
Подобное распоряжение давало повод для всевозможных притеснений, может быть
коснувшихся и вождей иерусалимской церкви, укрывшейся в Ватанее. Мы увидим эти
преследования возобновленными с большей силой при Домициане.
Огромная опасность для христианства, заключавшаяся в заботах о генеалогии
царского
потомства, не нуждается в доказательствах. Своего рода христианское дворянство
было на пути к образованию. В политическом отношении дворянство почти
необходимо для государства. Политика имеет дело с грубой борьбой, придающей ей
более материальный, чем идейный характер. Государство непрочно до тех пор, пока
некоторое количество семейных родов, благодаря традиционным привилегиям, не
станут считать своим долгом и выгодой заботиться о делах государства,
представлять его защищать его. Но в деле идеи рождение не при чем: каждый имеет
значение постольку, поскольку послужил раскрытию истины и поскольку совершил
добра. Учреждения, имеющие целью религию, литературу, нравственность, погибают
если в них преобладают соображения семейные, сословные и наследственность.
Племянники и двоюродные братья Иисуса погубили бы христианство, если бы церкви
Павла не были бы уже довольно сильны, чтобы явиться противовесом этой
аристократии, имевшей стремление признавать только себя достойной, а всех
других обращенных, как бы посторонними. Стали появляться претензии такие же,
как у Алидов в исламизме. Исламизм, несомненно бы погиб, благодаря смутам,
вызванным семейством пророка, если бы результат борьбы в первом столетии егира
не отодвинули на второй план всех близких к личности основателя. Настоящими
наследниками великого человека являются те, которые продолжают его дело, а не
кровные родственники. Считая предание об Иисусе как бы своей собственностью,
маленькая группа назарян, несомненно заглушила бы его; родные Иисуса были бы
забыты в глубине Hauran. Они потеряли всякое значение и оставили Иисуса его
настоящей семье, единственной которую он признавал: «слышавшим слово Божье и
соблюдавшим его». Многие места Евангелия, изображающие семью Иисуса в
неблагоприятном свете, могли явиться результатом антипатии, которую претензии
на благородство desposyni не замедлила вызвать к себе.
Глава IV. Отношения между евреями и христианами
Частые сношения церквей Ватанеи и Галилеи с евреями несомненны. Это именно к
иудео-христианам относилось часто употребляемое в талмудических преданиях
выражение миним, соответствующее слову «еретик». Минимы изображаются чем-то
вроде чудотворцев и духовных докторов, исцеляющих больных именем Иисуса и помазанием
святым елеем. Известно, что это одно из предписаний святого Иакова. Подобный
способ излечения и заклинания бесов был сильным средством для обращения
неверных, особенно когда дело касалось евреев. Евреи присвоили себе
вышеупомянутое чудесное средство, и до третьего века еще встречались еврейские
доктора, лечившие именем Иисуса, чему никто не удивлялся. Вера в повседневные
чудеса была сильна, и Талмуд даже предписывает читать особую молитву, когда с
кем-нибудь произойдет «особенное чудо». Лучшим доказательством веры Иисуса в
свою способность производить чудеса может служить то, что его родные и
несомненные ученики его имели как бы своей специальностью производство чудес.
Правда, пришлось бы признать Иисуса, если следовать тому же способу
рассуждения, узким евреем, но это именно то, что нам противно.
Иудаизм заключал в себе два направления, создававшие два совершенно
противоположные отношения к христианству. Закон и пророки по-прежнему
оставались противоположными полюсами еврейского народа. Закон приводил к той
странной схоластике, называемой Галаха, из которой получил свое начало Талмуд.
Пророки, псалмы, поэтические книги вызывали пламенную народную проповедь,
блестящие грезы, беспредельные надежды; то, что называли агада, слово,
одновременно охватывающее страстные сказки, как Юдифь, и апокрифические
апокалипсисы, волновавшие народ. Поскольку казуисты Явнеи относились
пренебрежительно к ученикам Иисуса, постольку агадисты были им симпатичны.
Агадисты совместно с христианами питали отвращение к фарисеям, любовь к
мессианским объяснениям книг, к произвольным толкованием, напоминавшим
свободное обращение с текстами средневековых проповедников, и веру в будущее
царство потомков Давида. Агадисты, подобно христианам, старались связать
генеалогию патриархальной семьи со старой династией. Как и христиане, они
пытались облегчить тяготы Закона. Их система аллегорических толкований,
превращавшая свод законов в книгу моральных предписаний, являлась открытым
отрицанием докторального ригоризма. со своей стороны галахисты считали
агадистов (христиане, по их мнению были агадистами) людьми легкомысленными,
чуждыми единственно серьезному познанию, познанию Торы. Таким образом,
талмудизм и христианство становились двумя антиподами морального мира.
Ненависть между ними разрасталась с каждым днем. Отвращение, которое вызывали в
христианах хитроумные изыскания казуистики в Явнее, отмечено в Евангелиях
огненными чертами.
Недостаток талмудического изучения был в том, что он вызывал самоуверенность
в учениках и возбуждал у них презрение к профанам: «Благодарю тебя,
Бессмертный, мой Бог», говорил учащийся, выходя из дома обучения, «за то, что
по твоей милости я посещал школу вместо того, чтобы, как другие, таскаться по
базарам. Я встаю в одно время с ними, но для изучения Закона, а не для суетных
дел. Я тружусь, как и они, но имею в виду будущую жизнь, тогда как они
достигнут лишь могилы». Вот что так сильно оскорбляло Иисуса и составителей
Евангелий и внушило им такие прекрасные изречения, как: «не судите, да не
судимы будете», и притчи, в которых простосердечный человек предпочитался
заносчивому ученику. Они, как и св. Павел, смотрели на казуистов, как на
людей, единственным делом которых было содействию проклятию возможно большого
числа людей преувеличением обязательств до размеров, невыносимых для человека.
Иудейство, имея своим основанием тот будто бы выведенный из опыта факт, что
человека судят в этом мире соответственно его достоинствам, старалось
непрерывно осуждать, так как только при этом условии могло проявиться
правосудие путей Господних. Фарисейство имело уже глубокие корни в теории
друзей Иова и у некоторых псалмопевцев. Иисус, отвергнув приложение правосудия
Бога в будущем, сделал бесполезными этих беспокойных критиков поведения других.
Царство небесное исправит все; Бог пока дремлет, но положитесь на него.
Благодаря отвращению к лицемерию, христианство пришло даже к парадоксу
предпочтения открыто-порочного мира, но склонного к обращению, буржуазии,
кичащейся своей внешней добропорядочностью. Многие из черт легенды, легенды, зародившихся
или развившихся под влиянием Христа, проникнуты этой идеей.
Между людьми одного племени, находящимися вместе в изгнании, признающими
одни и те же божественные откровения и расходящиеся между собой только по
одному вопросу современной им истории, возникновение споров было неизбежно.
Многочисленные следы этих споров находятся в Талмуде и в связанных с ним
писаниях. Наиболее знаменитый ученый, чье имя, по-видимому, связано с этими
спорами, был рабби Тарфон. До осады Иерусалима он выполнял священнические
обязанности; впоследствии он любил вспоминать о храме, особенно о том, как
присутствовал на эстраде священников при совершении торжественной службы в
Судный день. В этот день первосвященнику разрешалось произносить неизреченное
имя Бога. Тарфон рассказывал, как, несмотря на все усилия, он не мог ничего
уловить, — пение других священнослужителей мешало слышать.
После разрушения святого города он был одним из светил школ Явнеи и Лидды. С
тонким умом он соединял ничто гораздо более важное, любовь к ближнему. В
голодный год, он, как рассказывают, обручился с тремястами женщинами для того,
чтобы он в качестве будущих жен священника имели право пользоваться священными
приношениями. Конечно, по прошествии голода, он более не считался с этими
обручениями. Многие изречения Тарфона напоминают Евангелие. «День короток,
работа длинна, рабочие ленивы; жалование велико, хозяин торопит». «В наше
время», прибавляет он, «когда говорят кому-нибудь: вынь соломинку из глаза
твоего, слышится ответ: «Вынь бревно из своего». В Евангелии подобная реплика
приписывается Иисусу, делающему замечание фарисею; это дает повод думать, что
дурное расположение духа вызвано у Тарфона полученным им от какого-нибудь мин
подобный ответ. Имя Тарфон, действительно, было знаменито в церкви. Во втором
веке св. Юстин, желая в одном из диалогов представить еврея, спорящего с
христианином, выбрал нашего ученого защитником еврейской тезы, представив его
под именем Трифона.
Выбор Юстина и недоброжелательный тон, которым он снабжает Трифона по
отношению к христианской вере, вполне оправдывается тем, что мы читаем в
Талмуде о чувствах Тарфона. Этот рабби знал Евангелия и книги минимов. Но не
только не восхищался ими, а хотел, чтобы их сожгли. Ему замечали, что там часто
упоминается имя Бога. «Пусть я лишусь сына», — говорил он, — «если не брошу в
огонь этих книг, когда они попадут мне под руку, вместе с именем Бога в них
находящимся. Человек,
преследуемый убийцей, или угрожаемый укусом змеи, должен скорее искать убежища
в храме идолов, чем в домах минимов; так как последние знают истину и отвергают
ее, тогда как идолопоклонники отвергают Бога по неведению».
Если Тарфон, относительно умеренный человек, позволяет себе настолько
увлекаться, то можно представить ненависти в пламенном и страстном мире
синагог, где фанатизм Закона был доведен до высшего предела. У ортодоксального
иудейства просто не хватало проклятий для произнесения их против минимов. [Я
думаю, что к этому обычаю относится то же, что говорит Юстин об анафемах,
изрыгаемых евреями в их синагогах против Христа.] С ранних времен установили
обычай тройного проклятия, произносимого в синагоге утром, в полдень, вечером
против приверженцев Иисуса, под именем «назарян». [Приписывают вышеуказанную
прибавку патриарху рабби Гамалиилу II и предполагают, что она была сделана
в Явнее.] Это проклятие вошло в главнейшие молитвы иудейства, Амида или
schemone esre. Амида прежде состояла из восемнадцати благословений, или вернее
восемнадцати параграфов. Но около того времени, о котором мы говорим, в нее
вставили между одиннадцатым и двенадцатым параграфом следующее проклятие:
«Предателям нет спасения! Злонамеренным погибель! Пусть сила
гордости будет
ослаблена, унижена, разбита, скоро, в наши дни! Слава, о бессмертный, тем, кто
поражает твоих врагов и гордецов!»
Предполагают, и не без признаков основания, что врагами Израиля,
подразумеваемыми в этой молитве, были первоначально иудо-христиане[8]; это было в своем роде
schibboleth, с целью устранить из синагоги приверженцев Иисуса.
Обращение евреев в христианство было нередким явлением в Сирии; этому много
содействовала верность в соблюдении палестинскими христианами обрядов моисеева
Закона. В то время как необразованный христианин св. Павла не мог иметь
никаких сношений с евреем, иудео-христианин со своей стороны входил в синагоги,
мог приближаться к teba и к налою, где находились священнослужители и
проповедники, и поддерживать тексты, благоприятствующие его идеям. Разные меры
принимались против этого. Самой действенной из них могло быть введение
обязательства для всякого желающего молиться в синагоге прочесть молитву,
произнесение которой христианином являлось бы его собственным проклятием.
Итак, вкратце, несмотря на кажущуюся ее узость, назарео-эвионитская церковь
имела в себе нечто мистическое и святое, долженствовавшее производить сильное
впечатление. Простота еврейских понятий о божестве предохраняла ее от мифологии
и метафизики, куда не замедлило погрузиться западное христианство. Упорство, с
которым она придерживалась высочайшего Иисусова парадокса о благородстве и счастье
нищеты, имело в себе нечто трогательное. В этом, может быть, и заключалась
высшая истина христианства, посредством которой оно приобрело успех и
посредством которой оно переживет само себя. В некотором смысле мы все, ученые,
артисты, священники, имеем право называть себя эвионитами, пока остаемся
бескорыстными работниками. Друг правды, красоты и добра никогда не признает,
что он получает за это вознаграждение. Произведения духа не имеют цены:
человечество не может дать просвещающему его ученому, поучающему его
нравственности священнику, очаровывающему его поэту и художнику ничего, кроме
милостыни совершенно несоразмерной с тем, что оно от него получает. Тот, кто
продает идеи и считает себя вознагражденным, тот очень скромен. Гордый эвион,
считающий царство небесное своим, смотрит на часть, выпадающую на его долю в
этом мире, не как на плату, а как на грош, опускаемый в руку нищего.
Назаряне Ватанеи имели, таким образом, неоценимую привилегию обладать
истинным преданием слов Иисуса; Евангелие должно было получиться от них. Те,
которые непосредственно знали заиорданскую церковь, как Гегезипп и Юлий
Африкан[9], говорили о ней с большим
восторгом. Именно там, по преимуществу, казалось им, был идеал христианства;
эта церковь, скрытая в пустыне, в глубоком покое, под Божьим крылом,
представлялась им девственницей абсолютной чистоты. Связь этих удаленных общин
с кафолической церковью совершенно оборвалась. Юстин колеблется по поводу них;
он мало знаком с иудео-христианской церковью, но он знает о ее существовании,
говорит о ней с уважением, по крайней мере, не прерывает сношений с ней. Это о
ней он начинает целый ряд своих декламаций, которые после него повторяются
всеми греческими и латинскими Отцами и увенчиваются своего рода яростью,
которую вызывает у св. Епифания одно упоминание имени эвион и назаряне.
Закон этого мира требует, чтобы всякий основатель вскоре становился чужим,
потом исключенным, а затем врагом для своей же собственной школы, а если он жил
долго, то те, кто получили начало от него, были вынуждены принимать меры против
него, как против опасного человека.
Глава V. Закрепление легенды и учения Христа
Когда происходит великое явление в религиозном, нравственном, политическом
или литературном мире, то следующее поколение чувствует необходимость закрепить
воспоминание о
достопамятных вещах, происходивших при начале нового движения. Те, которые
присутствовали при первом появлении, те которые знали во плоти учителя, в то
время как многие другие обожали его только в идее, обыкновенно не расположены к
писаниям, уменьшающим их привилегию, имеющим в виду передать всем святую
традицию, которую они хранили, как сокровище в своем сердце. И лишь когда
начинает грозить опасность, что исчезнут последние свидетели события, начинают
беспокоится о будущем и стараются нарисовать образ основателя прочными чертами.
По отношению к учению Иисуса наступление времени, в которое обычно пишутся
воспоминания последователями, было отдалено тем, что существовала уверенность в
близкой кончине мира, уверенность, что апостольское поколение не пройдет без
того, чтобы кроткий назарянин не возвратился вечным пастырем своих друзей, а,
следовательно, потребность в записи воспоминаний была меньше.
Тысячу раз замечали, что сила памяти находится в противоположности с
привычкой к письму. Нам же трудно представить себе, как много могло сохранить
устное предание в те времена, когда не рассчитывали ни на свои собственные
записки, ни на имеющиеся в руках рукописи. Память человека заменяла книгу, и
при помощи
ее могли предавать даже те разговоры, при которых не присутствовали.
«Клазомениане слышали как Антифон, имевший сношения с неким Пифадором, другом
Зенона, вспоминал беседы Сократа с Зеноном и Парменидом, так как он слышал, как
их передавали Пифадору. Антифон знал их наизусть и повторял всем желающим».
Таково начало Парменидов Платона. Масса лиц, никогда не видавших Иисуса, знали
его без помощи книг, почти не меньше его непосредственных учеников. Жизнь
Иисуса, хотя и не написанная, была главным содержанием его церкви; его
нравоучения постоянно повторялись; по существу символическая часть биографии в
виде маленьких рассказов, как бы в отлитой форме, заучивалась наизусть; к числу
их, несомненно, принадлежал рассказ о Тайной Вечери. Весьма вероятно, подобными
же рассказами передавались и некоторые части Страстей; по крайней мере,
согласие четвертого Евангелия с остальными тремя в этих частях жизни Иисуса,
дает право так думать.
Еще легче сохранялись моральные изречения Иисуса, составлявшие наиболее
существенную часть его учения, их постоянно усердно повторяли про себя. «Около
полуночи я всегда просыпаюсь», — говорит Петр в эвионитском сочинении
135 года, — «и сон не возвращается ко мне, вследствие приобретенной
привычки повторять про себя слышанные слова моего Господа, для того, чтобы
точно их запомнить». Но так как те, которые непосредственно слышали
божественные слова, постепенно умирали, и грозила опасность, что много слов и
рассказов будут утеряны, то почувствовали необходимость их записать. В разных
местах составлялись маленькие сборники, в которых, кроме общих им всех мест,
были значительные различия: особенно различались их порядок и расположение.
Каждый старался пополнить свою тетрадку, справляясь с другими, и, совершенно
естественно, всякое зарождавшееся в общине характерное слово, соответствующее духу
Иисуса, схватывалось на лету и помещалось в сборник. По-видимому, апостол
Матфей составил один из подобных сборников, который был признан всеми. Однако,
сомнение и в этом случае допустимо. Даже вероятнее, что все эти маленькие
сборники слов Иисуса оставались анонимными в виде личных заметок и были
воспроизведены переписчиками не как произведение отдельных личностей.
Одно из писаний может дать понятие о первом зародыше Евангелий, это Pirke
Aboth, собрание изречений знаменитых раввинов со времен ossenes до второго
века нашей эры. Подобная книга не могла быть составлена иначе, как путем
последовательных дополнений. Развитие буддийских писаний о жизни Сакия-Муни шло
тем же путем. Буддийские сутры соответствуют сборникам слов Иисуса; они просто
начинаются указаниями вроде следующего: «в это время Бхагават жил в Кравасте
и т. д.» Повествовательная часть была очень ограничена. Наставления и
притчи составляли их главную цель. Целые области буддизма имеют только сутры. У
северного буддизма и у исходящих от него ветвей имеются еще книги, вроде Lalita
vistara, т. е. полные биографии Сакия-Муни, от его рождения до
достижения им окончательного развития. Буддизм Юга не имеет таких биографий, не
потому, что они ему неизвестны, а потому, что теологическое учение могло обходиться
без них, довольствуясь сутрами.
Когда мы будем говорить об Евангелии Матфея, то найдем возможным
приблизительно представить себе вид первых христианских сутр. Это были тетрадки
с записанными
без большого порядка изречениями и притчами, которые составитель Евангелия от
Матфея включил целиком. Еврейский гений всегда отличался в моральных
изречениях; в устах Иисуса этот изящный способ выражения достиг совершенства.
Ничто не мешает верить тому, что Иисус говорил именно таким образом. Но ограда,
согласно выражению Талмуда, охраняющая святое слово, была очень слаба. Подобные
сборники имеют свойство разрастаться путем медленного нарастания, причем
контуры первоначального ядра никогда не пропадают. Так трактат Eduith,
цельная маленькая Мишна, ядро большой Мишны, на котором осадки последовательных
слоев кристаллизации преданий ясно видны, представляет собой отдельной целое в
большой Мишне. Нагорную проповедь можно рассматривать как eduith'ы
Евангелия, то есть как первую искусственную группировку, не мешающую образоваться
последующим комбинациям и рассыпаться сшитым тонкой ниткой правилам.
На каком языке были составлены меленькие сборника наречий Иисуса? Эти Perke
Jechon, если можно так выразиться? На языке Иисуса, на вульгарном языке
Палестины, смеси еврейского с арамейским, который продолжали называть
«еврейским» и которому современные ученые дали название «сиро-халдейский», и в
этом отношении Pirke-Aboth, может быть, лучше всего дает понятие о
первоначальных Евангелиях, несмотря на то, что фигурирующие в этом сборнике
раввины, ученые чисто-еврейской школы, говорили языком более близким к
еврейскому, чем тот, на котором говорил Иисус. Конечно, законоучители,
говорившие по-гречески, переводили его слова как могли и довольно свободно. Это
называется Logia Liriaka, «оракулы Господни», или просто Logia.
Сиро-халдейские сборники изречений Иисуса никогда не имели единства, греческие
сборники имели еще меньше и были написаны в виде заметок для личного
употребления.
Невозможно, чтобы весь Иисус, даже мимолетно, был резюмирован в одном
нравоучительном рассказе; Евангелие не должно было замыкаться в узкие рамки
маленького нравоучительного трактата. Сборник ходячих притчей и правил, как Pirke-Aboth,
не изменил бы человечество, если бы и был переполнен наиболее высокими правилами.
В высшей степени характерно для Иисуса то, что для него учение было
неразрывно связано с делом. Его уроки заключались в делах, живых символах,
неразрывно связанных с его притчами, и, конечно, в древних тетрадках,
написанных для укрепления в памяти его поучений, уже были помещены анекдоты и
маленькие рассказы. Скоро эти рамки оказались слишком узкими. Изречения Иисуса
ничто без его биографии. Биография его была тайна по преимуществу,
осуществление идеала мессианизма; тексты пророков находили в ней свое
подтверждение. Рассказать жизнь Иисуса, значило подтвердить его мессианство,
создать в глазах евреев полную апологию нового движения.
Таким образом, очень рано создались рамки, послужившие своего рода основой
всех Евангелий, где действия и слова были перемешаны. Вначале Иоанн Креститель,
предтеча царства небесного, извещающий, принимающий и представляющий Иисуса,
потом Иисус, приготавливающийся к своей божественной миссии своим удалением в
пустыню и исполнением Закона; потом блестящий период общественной жизни: яркое
светило царства Божия, Иисус, среди своих учеников сияет мягким умеренным
светом пророка, сына Божия. Так как ученики его имели главным образом
воспоминания о Галилее, то эта последняя и стала почти единственным театром
действия этой прекрасной теофании.
Роль Иерусалима свелась почти к нулю, и Иисус идет туда только за восемь
дней до своей смерти. Последние два дня его жизни передаются с часа на час.
Накануне своей смерти он празднует Пасху со своими учениками и устанавливает
обряд взаимного причащения. Один из учеников изменяет ему; официальные власти
иудейства добиваются от римских властей его смерти; он умирает на Голгофе, и
его хоронят. На третий день его могила оказывается пустой; он воскрес, и воссел
одесную своего Отца. Многих из его учеников посетила его тень, путешествующая
между небом и землей.
Начало и конец, как мы видели, были точно установлены. Середина, наоборот,
представляла собой хаос анекдотов, без всякой хронологии. Для всей этой части
биографии, относящейся к общественной жизни, не было никакого установленного
порядка; всякий распределял материал на свой лад. В целом рассказ был тем, что
называется «благой вестью», по-еврейски besora, по-гречески — евангелион,
намекая на параграф второго Исайи: «Дух Иеговы на мне, ибо Иегова помазал меня
благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темниц, проповедовать лето Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего; утешить всех сетующих». Mebasser,
или «евангелисту», предназначалась особая обязанность изложить эту прекрасную
историю, которая послужила восемнадцать веков тому назад великим орудием
обращения людей и продолжает оставаться величайшей опорой христианства в его
борьбе еще и в наши дни.
Материалом служило предание; а предание по своей сущности — мягкий
растяжимый материал. К действительным словам Иисуса примешивались слова более
или менее предполагаемые. Происходило ли в общине новое событие, или появлялось
новое направление, сейчас же себя спрашивали: что бы подумал об этом Иисус;
распространялось какое-нибудь выражение, и без всяких затруднений его
приписывали Учителю[10]. Таким образом,
сборник беспрерывно обогащался и вместе с тем очищался. Устранялись слова,
которые слишком живо задевали убеждения того времени или казались опасными. Но
сущность оставалась незыблемой. Она, действительно, имела прочное основание.
Евангельское предание — это предание церкви Иерусалима, перенесенное в Перею.
Евангелие зародилось среди родных Иисуса и есть, до известной степени, создание
его непосредственных последователей.
Это и дает право считать образ Иисуса, даваемый Евангелиями, сходным в
главных чертах с оригиналом. Эти рассказы — одновременно история и образ.
Вследствие присоединения вымысла заключать об отсутствии там достоверного —
значило бы впадать в ошибку от излишней боязни ошибки. Если бы мы знали
Франциска Асизского только по его книге Conformites, то мы могли бы
считать эту последнюю такой же биографией, как биография Будды и Христа,
биографией, написанной a priori, чтобы показать осуществление предвзятого
типа. Между тем, Франциск Асизский действительно существовал. Али у шиитов
превратился бы в совершенно мистическое лицо. Его сыновья Гассан и Госсейн
представляли себя в роли легендарного Таммуза. Между тем Али, Гассан и Госсейн
— действительно существовавшие лица. Очень часто миф прикрывает историческую
биографию. Идеал иногда бывает правдой. Афины дают абсолютную красоту
в искусстве, и Афины
существуют. Даже лица, принимаемые за символические образы, могли некогда жить
во плоти. Все эти истории происходят настолько по образцу, установленному
природой вещей, что все они сходны между собой. Бабизм, появившийся в наше
время, имеет в своей зарождающейся легенде часть некоторые части, как будто
скопированные с жизни Иисуса; тип отрекающегося ученика, подробности страданий
и смерти Баба представляются как бы подражанием Евангелия, нисколько не
означая, что дело происходило не так, как оно рассказано.
Прибавим, что рядом с идеальными чертами, заключающимися в герое Евангелия,
в нем есть и
черты времени, расы и индивидуального характера. Этот молодой еврей,
одновременно кроткий и страшный, тонкий и повелительный, наивный и глубокий,
полный бескорыстного рвения, высочайшей нравственности и пыла экзальтированного
человека, существовал на самом деле. Он был бы на месте в картине Бида, с
лицом, обрамленным густыми локонами волос. Он был еврей и был самим собой.
Потеря сверхъестественного ореола ничем не уменьшала силы его очарования. Новая
раса, предоставленная сама себе и освободившаяся от всего, внесенного еврейским
влиянием в способ мышления, будет по-прежнему его любить.
Описывая подобную жизнь, конечно, постоянно приходится говорить, подобно
Квинту Курцию: Equidem plura transscribo quam credo. С другой стороны,
вследствие преувеличенного скептицизма теряется много правды. Для наших умов,
ясных и схоластических, различие между реальным сказанием и фиктивным
абсолютно. Эпическая поэма, героический рассказ, в котором гомериды, трубадуры,
антары и консисторы чувствовали себя легко и свободно, превращаются в поэзию
Лукана и Вольтера, в театральные произведения, которые не обманывают никого.
Для успеха подобных сказаний необходимо, чтобы слушатель их принял; но
достаточно, если автор признает их возможными. Писатели жизни святых и агадисты
не могут быть названы обманщиками, так же, как и авторы гомерических поэм, как
и христианин из Труа. Одна из существенных черт настроения тех, которые
действительно создают плодотворные мифы, это полная беззаботность по отношению
к фактической правде. Агадист ответил бы улыбкой на наш простодушный вопрос:
«правда ли то, что ты рассказываешь?» В подобном настроении духа заботятся
только о том, как бы вложить доктрину и выразить чувство. Дух все; буквальная
точность неважна. Объективная любознательность, стремящаяся к единственной цели
— знать насколько возможно точно, как в действительности происходят события,
вещь почти беспримерная на Востоке.
Как жизнь Будды в Индии была отчасти написана вперед, так и жизнь еврейского
Мессии была намечена заранее; можно было сказать, что он должен был делать и
что он должен был совершить. Его тип до известной степени был как бы изваян
пророками, и не подозревавший этого, благодаря толкованиям, относившим к Мессии
все, что касалось туманного идеала, тогда как у христиан чаще всего
господствовал обратный прием. Читая пророков и в особенности пророков конца
изгнания, второго Исайю и Захарию, они находили Иисуса в каждой строке. «Ликуй
от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на молодом осле, сын
подъяремной». Этот царь нищих был Иисус; им казалось, что они припоминают одно
обстоятельство, при котором они выполнят указанное пророчество. «Камень,
который отвергли строители, сделался главою угла», читают они в псалме. «И
будет он освящением и камнем преткновения, скалою соблазна для обоих домов
Израиля, петлей и сетью для жителя Иерусалима, и многие из низ преткнуться и
упадут», читают они у Исайи. «Вот это он!» — замечают они. Особенно страстно
обдумывались обстоятельства Страстей с целью найти там символ. Все, что
происходило с часу на час в этой ужасной драме, оказывалось выполнением
какого-нибудь текста, обозначением какой-нибудь тайны. Вспоминали, что он не
хотел выпить масла, что его голени не были раздроблены, что по поводу его
платья тянули жребий. Пророки все это предсказали. Иуда и его серебряники
(действительные или предполагаемые) приводили к аналогичным сближениям. Вся
древняя история народа Божия являлась как бы моделью, с которой копировали.
Моисей и Илья своим светозарным появлением вызывали представления вознесения
славы. Все античные теофании происходили на вершинах[11]; Иисус открывал себя главным образом на горах,
преобразился на горе Фавор[12]. Не
останавливаясь даже перед тем, что мы назвали бы нелепостью: «Я позвал своего
сына из Египта», — говорит Иегова, но христианская фантазия применила это к
Иисусу, и его ребенком переносят в Египет. При помощи еще более слабого
толкования нашли, что рождение Иисуса в Назарете было исполнением
пророчества.
Все сплетение жизни Иисуса — преднамеренное дело, род нечеловеческого
устройства, предназначенного для осуществления целой серии текстов, считавшихся
относящихся
к нему. Этот род толкований, называемых евреями мидрам, при котором все
экивоки, всякое сочетание слов, букв и смысла принимаются во внимание. Старые
библейские тексты не представляли для евреев того времени, как для нас,
исторически литературного целого, а волшебную книгу, из которой можно было
получать всевозможные указания судьбы, образы и заключения. Настоящий смысл для
подобных толкований не существовал; приближались уже к химерам каббалистов, для
которых священный текст являлся собранием букв. Бесполезно упоминать, что вся
эта работа проводилась безлично, в некотором роде анонимно. Легенды, мифы,
народные песни, пословицы, исторические слова, характерные сплетни партии, —
все это работа великого обманщика, имя которому — толпа. Несомненно, всякая
легенда, всякая пословица и всякое остроумное слово имеют отца, но отца
неизвестного. Кто-нибудь скажет слово, тысячи его повторяют, полируют,
обостряют; даже тот, который его сказал, был не более как истолкователь всех.
Глава VI. Еврейское Евангелие
Этот рассказ мессианской жизни Иисуса, перемешанный с одними и теми же
текстами пророков,
который можно было передать в один прием, очень рано определился, почти в
неизменных выражениях, по крайней мере по смыслу. Рассказ шел не только по
определенному плану, но и характерные слова были установлены настолько прочно,
что то или другое слово часто направляло мысль и переживало изменение текста.
Рамка Евангелия, таким образом, существовала раньше самого Евангелия, почти
также как в современных персидских драмах о смерти амедов ход действия
установлен, а остальное предоставлено импровизации актеров. Предназначенный для
проповеди, апологии, для обращения евреев, рассказ Евангелия имел свою
индивидуальность раньше, чем был написан. Ученики галилеяне и братья Господни
ответили бы с усмешкой, если бы им указали на необходимость иметь книжки, в
которых этот рассказ был бы облечен в освященную форму. Разве мы нуждаемся,
сказали бы они, в бумаге, чтобы помнить наши основные мысли, те мысли, которые
мы повторяем и применяем ежедневно? Молодые учителя могли бы еще в течение
некоторого времени прибегать к подобным способам освежения своей памяти; старые
же учителя относились с высокомерием к тем, кто пользовался этим средством.
Вот почему до половины второго века слова Иисуса продолжали передаваться на
память со значительными вариантами. Евангельские тексты, которыми мы теперь
обладаем, уже существовали, но рядом с ними имелись и другие в том же роде, к
тому же для цитирования слов и символических черт жизни Иисуса не считалось
обязательным справляться с писанными текстами. Все черпали из великого
резервуара, которым являлось живое предание. Тем и объясняется, по-видимому,
удивительный факт, что происхождение текстов, сделавшихся впоследствии наиболее
важной частью христианского учения, темно и неясно. И первоначально они не
пользовались никаким уважением.
То же явление мы встречаем, между прочим, во всех священных литературах.
Веды пережили века, не будучи записанными. Всякий уважающий себя человек должен
был знать их наизусть; тот,
кто нуждался в манускрипте для прочтения этих античных гимнов, тем самым
признавал свое невежество; поэтому манускрипты и не пользовались уважением.
Цитировать на память Библию и Коран составляет предмет гордости Востока, даже и
в наши дни. Часть еврейской Торы, по всей вероятности, была устной раньше, чем
ее записали. То же можно сказать о Псалмах. Талмуд существовал около двухсот
лет, не будучи записанным. Даже после того, как он был записан, ученые
предпочитали речи по преданиям манускриптам, заключавшим в себе мнение ученых.
Слава ученого находилась в зависимости от цитирования на память возможно
большего числа казуистических решений. В виду этого, вместо того, чтобы
удивляться пренебрежению Папия к евангелическим текстам, существовавшим в его
время, среди которых, наверное, были два, впоследствии так сильно почитаемые
христианством, мы находим это вполне отвечающим тому, что можно было ожидать от
человека традиции, «человека древнего», как его называли те, которые о нем
писали.
Мы сомневаемся в том, чтобы до смерти апостолов и разрушения Иерусалима все
это собрание рассказов, изречений, притч и пророческих цитат было записано. Это
около 75 года, — определяем время по догадке, — были набросаны черты
того образа, перед которым преклонялись восемнадцать веков. Ватанея, где жили
братья Иисуса и куда укрылись остатки церкви Иерусалима, по-видимому, был
местом, где выполнили эту важную работу. Язык, послуживший для нее, был языком
самих слов
Иисуса, которые знали наизусть, т. е. сиро-халдейским, неправильно
называемым еврейским. Братья Иисуса и христиане, иерусалимские беглецы,
говорили на том же языке, мало отличавшемся от языка ватанейцев, не
заимствовавших греческого. На этом темном и не обработанном литературой наречии
была впервые написана книга, очаровавшая души. Конечно, если бы Евангелие
осталось еврейской или сирийской книгой, то судьба его была бы весьма скоро
ограничена. Только на греческом языке Евангелие могло достигнуть совершенства и
принять свой окончательный вид, в котором оно обошло весь мир. Но все-таки не
следует забывать, что первоначально Евангелие было сирийской книгой, написанной
на семитическом языке. Евангельский стиль, этот очаровательный склад детского
рассказа, напоминающий более светлые страницы древних еврейских книг,
проникнутый некоторого рода эфиром идеализма, неизвестного древнему народу, не
имеет в себе ничего греческого. Еврейское служит ему основанием. Правильное
соотношение материализма со спиритуализмом, или, скорее незапамятное смешение
души и чувств делает этот восхитительный язык синонимом поэзии, облачением идеи
нравственности, нечто подобное греческой скульптуре, где идеал допускает
прикоснуться к нему и любить его.
Таким образом написано не сознающим себя гением это чудо самобытного
искусства — Евангелие, не то или другое Евангелие, но вид неустановившейся
поэмы, тот
нередактированный шедевр, в котором всякая погрешность — красота, и сама
неопределенность которого была главным условием его успеха. Портрет Иисуса
законченный, установленный, классический не производил бы такого чарующего
действия. Агада, притча не выносят определенных контуров. Им нужны подвижная
хронология, легкие переходы, беззаботность по отношению к действительности.
Именно посредством Евангелия еврейская агада достигла всемирной славы. Его дух
чистосердечия обвораживает. Умеющий рассказывать овладевает толпой, но
искусство рассказывать — редкая привилегия, оно требует наивности, отсутствия
педантизма, на что конечно не способен важный ученый. Буддисты и еврейские
агадисты (евангелисты — настоящие агадисты) только одни обладали этим
искусством в той степени совершенства, при которой можно заставить весь мир
признать рассказ. Все сказки и притчи, повторяемые с одного конца земли до
другого имеют своим началом только два источника: один буддийский, другой
христианский, потому что только буддисты и основатели христианства заботились о
народной проповеди. Положение буддистов по отношению к браминам имело нечто
аналогичное с положением агадистов по отношению к талмудистам. Талмудисты не
имеют ничего похожего на евангельскую притчу, как и брамины сами по себе не
достигли бы легких подвижных оборотов буддийского рассказа. Две божественные
жизни хорошо рассказаны — Будды и Иисуса. Вот секрет двух наиболее обширных
религиозных пропаганд из всех когда-либо виденных человеком.
Галаха никого не обратила; одни послания св. Павла не приобрели бы и
сотни приверженцев Иисусу. Сердца завоевало Евангелие, эта восхитительная смесь
поэзии и нравственного чувства; рассказ, витающий между грезами и
действительностью в
раю, где не измеряется время. Во всем этом было немного и литературной
неожиданности. Необходимо уделить часть успеха Евангелия и на долю удивления,
вызванного у наших тяжеловесных племен необычайной восхитительностью семитского
рассказа, искусным подбором фраз и разговоров, удачными, ясными и
соразмеренными периодами. Непривычные к искусству агады, наши благодушные
предки так были очарованы ими, что и в настоящее время трудно себе представить,
насколько в подобных рассказах может отсутствовать фактическая правда. Но
одного этого недостаточно, чтобы объяснить, почему Евангелие у всех народов
стало тем, что оно есть, старой семейной книгой, истертые листы которой,
смоченные слезами, носят на себе отпечатки пальцев целых поколений. Своим
литературным успехом Евангелие обязано самому Иисусу; Иисус, если можно так
выразиться, был автором своей собственной биографии. Один опыт может доказать
это. Еще долго будут писать «жизни Иисуса», и жизнь Иисуса всегда приобретет
большой успех, если автор будет обладать некоторой долей искусства, смелости и
наивности, необходимых для перевода Евангелия на стиль своего времени. Искали
тысячи причин успеха Евангелия, но никогда не будет другой причины, кроме одной
— самого Евангелия, его несравненной внутренней красоты. Пусть тот же автор
переведет затем таким же образом св. Павла, люди не будут им увлекаться.
Могучая личность Иисуса, возвышавшаяся над посредственностью его учеников, была
душой нового явления и придавала ему всю его оригинальность.
Еврейское первоевангелие сохранялось до пятого века среди назарян в Сирии.
Существовали и греческие переводы. Один из экземпляров подобного перевода
имелся в библиотеке священника Памфила в Кесарии: св. Иероним сообщает,
что он переписал еврейский текст в Алепии и даже перевел его. Все отцы церкви
находили
это еврейское Евангелие весьма сходным с греческим Евангелием, носящим имя
св. Матфея. По большей части они приходили к заключению, что греческое
Евангелие, называемое от св. Матфея, переведено с еврейского. Это
ошибочное заключение. Происхождение Евангелия от Матфея шло гораздо более
сложными путями. Сходство этого последнего Евангелия с еврейским не доходило до
тождества. Тем не менее, наше Евангелие от Матфея не что иное, как перевод.
Далее мы объясним, почему оно более всех Евангелий подходит к еврейскому
прототипу.
Уничтожение иудео-христиан Сирии повело к исчезновению еврейского текста,
разбираемого нами Евангелия. Греческие и латинские переводы интересующего нас
Евангелия, находившиеся в нежелательном диссонансе с каноническими Евангелиями,
также погибли. Но многочисленные цитаты отцов церкви дают нам возможность иметь
некоторое представление об оригинале. Отцы церкви вполне правы, сближая его с
первым нашим Евангелием. Еврейское Евангелие назарян действительно очень
походило на Евангелие, приписываемое Матфею, своим планом и расположением. По
размером оно занимало среднее место между Евангелиями Марка и Матфея. Очень
жаль, что подобное произведение утеряно. Но если бы мы имели и еврейское
Евангелие, виденное св. Иеронимом, то все-таки пришлось бы предпочесть
Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея осталось неизменным после своего
окончательного составления в последних годах первого столетия, так как
еврейское Евангелие, в виду отсутствия ортодоксальности, ревниво охраняющей
тексты, у иудействующих христиан, переделывалось век за веком настолько, что
было немногим лучше апокрифического.
Первоначально, по-видимому, оно имело характер первичного произведения. План
рассказа такой же, как у Марка, более простой, чем у Матфея и Луки. Девственное
зачатие Иисуса там отсутствовало. Относительно генеалогии велась оживленная
борьба. По этому поводу произошло великое эвионитское сражение. Некоторые
помещали генеалогические списки в своих экземплярах; другие отбрасывали их.
Сравнительно с Евангелием, приписываемым Матфею, еврейское Евангелие, насколько
мы можем судить по дошедшим до нас отрывкам, обладало менее утонченным
символизмом, было более логическим, менее заслуживало обвинений в некоторых
толкованиях, но зато заключало в себе более сверхъестественного, более
странного и грубого, более сходного с имеющимся у Марка. Так, басня о том,
будто во время крещения Иисуса загорелся Иордан, басня, ценившаяся преданиями
первых веков, находилась в нем. Предполагаемый вид, в котором Святой Дух вошел
в Иисуса, по-видимому, тоже очень древняя выдумка назарян. Для преображения,
Дух, Мать Иисуса, согласно фантазии, находящейся у Езекиила и в добавлениях к
книге Даниила, берет своего сына за один волос и переносит на гору Фавор.
Некоторые материальные подробности неприятно поражают, но совершенно во вкусе
Марка. Наконец, некоторые места, случайно оставшиеся в греческом предании, как
например, анекдот о блуднице, прицепившийся к четвертому Евангелию, нашли себе
место в еврейском Евангелии.
Рассказы о видении воскресшего Иисуса носили особый характер в этом
Евангелии. Тогда как Галилейское предание, передаваемое Матфеем, хотело, чтобы
местом свидания Иисуса с учениками была Галилея, еврейское Евангелие,
представлявшее предание Иерусалимской церкви, предполагало местом всех явлений
Иисуса Иерусалим и приписывало Иакову честь первого видения. Последние главы
Евангелий Марка и Луки также указывают на Иерусалим, как на место всех явлений
Иисуса. Св. Павел придерживается подобного же предания.
Замечательно то, как Иаков, человек Иерусалима, играл в еврейском Евангелии
более значительную роль, чем в еврейских преданиях, дошедших до нас.
По-видимому, у греческих евангелистов было некоторого рода преднамеренное
желание умалить значение брата Иисуса и даже дать повод думать, что он играл
скверную роль. В Евангелии назарян, наоборот, Иаков почтен первым появлением воскресшего
Иисуса ему одному, в награду за данный Иаковом, полный глубокой веры, обет не
пить и не есть, пока он не увидит своего брата воскресшим. Можно было бы
смотреть на этот рассказ, как на довольно современную переделку легенды, если
бы не одно весьма важное обстоятельство. Св. Павел сообщает нам
в 57 году, согласно слышанному им преданию, что Иаков имел видение.
Вот важный факт, утаенный греческими евангелистами и рассказанный еврейским
Евангелием. В свою очередь, еврейское Евангелие в первой редакции, по-видимому,
заключало в себе ни один намек против св. Павла. Например, люди
пророчествовали, изгоняя бесов во имя Иисуса; Иисус открыто отрицал их, так как
они поступали незаконно. Притча о плевелах еще более характерна. Человек посеял
в своем поле только хорошую пшеницу, но во время его сна пришел «человек враг»,
посеял на его поле плевелы и ушел. Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему:
«Господин! Не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?»
Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы
пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет! Чтобы выдирая плевелы, вы не выдергали
с ними пшеницы, оставьте расти то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу мою». Нужно заметить, что выражение «человек враг»
служило собственно у эвионитов для обозначения Павла.
Считали ли сирийские христиане еврейское Евангелие, которым они
пользовались, произведением Матфея? Нет ни одного
серьезного указания на это. Свидетельство отцов церкви ничего не доказывает в
этом вопросе. При крайней неточности церковных писателей, когда дело касалось
еврейского языка, вполне верное предположение, что «еврейское Евангелие
христиан Сирии похоже на греческое Евангелие, известное под названием от
святого Матфея», могло превратиться далеко не в тождественное выражение:
«Христиане Сирии имеют Евангелие от Матфея на еврейском языке», или даже
следующее: «святой Матфей написал Евангелие по-еврейски». Мы думаем, что имя
св. Матфея было присоединено к одной из редакции Евангелия только тогда,
когда греческий текст Евангелия, носящего его имя, был уже составлен, как об
этом будет сказано дальше. Если еврейское Евангелие когда-нибудь носило
название автора, как гарантию верности предания, то это было «Евангелие
двенадцати апостолов» или «Евангелие Петра». И одно из этих имен, по нашему
мнению, было дано уже позже, когда Евангелия, носящие имена апостолов, как
например от Матфея, были в почете. Наиболее решительной мерой для сохранения
высокого значения за старым Евангелием могло послужить прикрытие его
авторитетом всего апостольского состава.
Как мы указывали выше, еврейское Евангелие плохо охранялось. Всякая
иудействующая секта в Сирии делала в нем сокращения и добавления, так что
правоверные описывали его то как интерполированное и более длинное, чем
Евангелие Матфея, то как урезанное. Особенно у эвионитов второго столетия,
еврейское Евангелие достигло последней степени изменения. Эти еретики составили
греческий текст, обороты которого были неловки, тяжелы и преувеличены, и притом
они не уклонились от подражания Луке и другим греческим евангелистам. Так
называемые Евангелия «от Петра» и «согласно египтянам» происходят из того же
источника; они также носили апокрифический характер и невысокой пробы.
Глава VII. Греческое Евангелие. Марк
Христианство греческих стран чувствовало еще большую, чем христианство
сирийских стран,
потребность в письменном изложении учения и жизни Иисуса. На первый взгляд
может показаться, что было весьма легко удовлетворить эту потребность, переведя
еврейское Евангелие, уже принявшую определенную форму вскоре после разрушения
Иерусалима. Но простой точный перевод не был делом тех времен; ни один из
существовавших текстов не имел такого авторитета, благодаря которому его могли
бы предпочесть другим. Кроме того, сомнительно, чтобы маленькие еврейские
книжечки назарян были перевезены через море из Сирии. Апостольские лица, бывшие
в сношениях с церковью Запада, несомненно не привозили с собой этих книжек,
которые не могли читаться их последователями. Когда явилась потребность в
греческом Евангелии, его составили из разных кусков. Но, как мы говорили выше,
план и рамки его почти вполне были намечены вперед. Существовал только один
способ рассказывать жизнь Иисуса, и два из его последователей, писавшие
отдельно, один в Риме, другой — в Кокабе, один по-гречески, другой — по
сиро-халдейски, должны были дать произведения весьма аналогичные между собой.
Общее направление и порядок рассказа не приходилось устанавливать. От
писателя требовались только греческий стиль и набор существенных выражений.
Человек, произведший эту работу, был Иоанн-Марк, ученик и переводчик Петра.
По-видимому, еще будучи ребенком, Марк кое-что видел из евангельских событий и,
весьма возможно был в Гефсимании. Он лично знал лиц, принимавших участие в
последних дней жизни Иисуса. Марк
сопровождал Петра в Рим, по всей вероятности, остался там после смерти апостола
и пережил в этом городе последовавшие затем ужасные кризисы. И там же, по всем
данным, он составил маленькую рукопись, в сорок или пятьдесят страниц,
послужившую ядром греческих Евангелий.
Рукопись, хотя и составленная после смерти Петра, в некотором смысле была
произведением самого Петра; это был тот способ, которым Петр имел обыкновение
рассказывать жизнь Иисуса. Петр еле-еле знал по-гречески, Марк служил ему
переводчиком и сотни раз пересказывал эту чудесную историю. В своих проповедях
Петр не следовал строгому определенному порядку, а сообщал факты и притчи,
поскольку того требовало поучение. То же свободное отношение имеется и к книге
Марка. В ней нет логического распределения материала; и в некоторых отношениях
она очень не полна; там не хватает рассказов почти о целых частях жизни Иисуса;
на это жаловались уже во втором веке. Наоборот, по ясности, определенности
деталей, картинности и жизненности с этим первым рассказом не сравнялся ни один
из последовавших. Некоторый род реализма делает его тяжелым и суровым, отчего
страдает идеальный характер Иисуса; местами попадается необъяснимая несвязность
и причудливость. Первое и третье Евангелие много превосходят Евангелие Марка
красотой речей и удачным расположением анекдотов; многие оскорбительные
подробности в них отсутствуют. Но, как исторический документ, Евангелие Марка
имеет большое преимущество. Сильное впечатление, произведенное Иисусом,
находится там полностью. Там он виден действительно живущим и действующим.
Нас удивляет принятая Марком манера сокращать так странно большие речи
Иисуса. Он не мог не знать этих речей; если он их опустил, то, очевидно,
руководясь каким-нибудь мотивом. Ум Петра, несколько узкий и сухой, мог быть
причиной подобных исключений. Тем же, вероятно, можно объяснить и ребяческую
важность, придаваемую Марком чудесам. Чудотворство в его Евангелии имеет особый
характер тяжелого материализма, по временам напоминающего бред магнетизера.
Чудеса выполняются с трудом последовательными фазами. Иисус совершает их при
помощи арамейских формул, имеющих каббалистический вид. Происходит борьба между
естественными и сверхъестественными силами; зло мало-помалу уступает
повторяющимся повелениям. Притом эти чудеса имеют несколько секретный характер:
Иисус каждый раз запрещает тем, кто воспользовался его чудом, говорить об этом.
Нельзя отрицать, что по этому Евангелию Иисус выходит не прекрасным моралистом,
которого мы любим, но страшным волшебником. Чувство, вызываемое им вокруг себя,
чувство ужаса; и люди, устрашенные его чудесами, приходят умолять его удалиться
от их границ.
Но вследствие этого Евангелие Марка нельзя считать менее историческим, чем
другие; совершенно наоборот. Все в высшей степени оскорбляющее нас имело
большую важность для Иисуса и его учеников. Римский мир еще более, чем
еврейский, был жертвой подобных заблуждений. Чудеса Веспасиана составлялись по
тому же образцу, как и Иисусовы в Евангелии Марка. Слепой и хромой
останавливали его в общественном месте, умоляя исцелить их. Он исцелял первого,
плюнув ему в глаза, а второго — наступив ему на ногу. Петр, по-видимому, был
особенно поражен подобными чудесами и, вероятно, напирал на них в своих
проповедях. Оттуда и особый характер произведения, написанного под его
влиянием. Евангелие Марка более биография, написанная с верой, чем легенда.
Характер легенды, туманность обстоятельств, мягкость контуров поражают в
Евангелиях Матфея и Луки. Здесь же, наоборот, все взято с живого, чувствуется,
что имеешь дело с воспоминаниями.
Господствующий дух в этой книжечке — дух Петра. Во-первых, Кифа играет в ней
важную роль и почти всегда стоит во главе апостолов. Автор не принадлежит к
школе Павла, но вместе с тем он во многих случаях более приближается к его
направлению, чем к направлению Иакова, своим равнодушием к иудейству,
ненавистью
к фарисейству и своей горячей оппозицией принципам еврейской теократии. Рассказ
о хананеянке, указывающий ясно на то, что язычник может спастись, если уверует,
будет смиренным и признает прошлые привилегии дома Израиля, вполне согласуется
с ролью Петра в истории центуриона Корнилия. Впоследствии Павел считал Петра
недостаточно решительным, но тем не менее Петр первым признал призвание
язычников.
Далее мы увидим, какого рода изменение нашли нужным внести в этот первый
греческий текст Евангелия и как, благодаря этим изменениям, появились Евангелия
от Матфея и Луки. Важным фактом примитивной христианской литературы является
то, что исправленные и расширенные тексты не повели к исчезновению
первоначального текста. Маленькая книжечка Марка сохранилась и скоро, благодаря
удобной, но вполне ошибочной гипотезе, сделавшей из нее «божественное сокращение»
попала в таинственное число четырех Евангелий. Осталось ли Евангелие Марка
вполне чистым от всяких изменений, читаемый нами теперь текст есть ли первое
греческое Евангелие в чистом виде? Весьма возможно, что когда сочли нужным, при
составлении новых Евангелий, носящих другие имена, взять за основание Марка,
тогда же подправили и само Евангелие Марка, оставив ему старое имя. Многие
частности заставляют предполагать некоторого рода обратное влияние на текст
Марка Евангелий, составленных по Марку.
Но все это сложные гипотезы, ничего не доказывающие. Евангелие Марка
представляет нечто вполне целое и, не считая некоторых деталей, в которых
расходятся манускрипты, не считая маленьких поправок, без которых не обошлось
ни одно из христианских писаний, в него, по-видимому, внесено мало
сколько-нибудь значительных изменений с тех пор, как оно было составлено.
Характерной чертой Евангелия Марка является отсутствие в нем с самого же
начала генеалогии и легенд, относящихся к детству Иисуса. Если бы в нем был
пробел, который необходимо было пополнить для правоверных читателей, то именно
этот; однако, остереглись внести в него подобные дополнения. Многие другие
частности, стеснительные с точки зрения апологетов, не были исключены из него.
Единственно только рассказы о воскресении носят на себе следы поправок. Лучший
манускрипт
останавливается на словах ЕФОВОУNТОГАР (XVI, 8). Однако, невозможно, чтобы
первоначальный текст оканчивался таким обрывчатым образом. Вероятно, там
находилось нечто несоответствующее существовавшему тогда взгляду; его отрезали;
но оборвать на efobounto gar было неудобно, стали придумывать различные
заключительные параграфы, из которых ни один не был достаточно авторитетен,
чтобы устранять из манускриптов другие.
Из того, Матфей и Лука опускали тот или другой параграф, имеющийся у Марка,
заключать,
что эти параграфы не находились первоначально у Марка — заблуждение. Вторичные
составители выбирали и опускали, руководимые инстинктом художественности и
требованиями единства своего произведения. Имели смелость утверждать, например,
что описание Страстей отсутствовало в первоначальном Евангелии Марка, так как
Лука, следовавший ему до тех пор, оставляет его в рассказе о последних часах
Иисуса. В действительности же, Лука в описание Страстей взял себе другого
руководителя, более трогательного и более символического, а Лука был слишком
хороший художник, чтобы смешивать краски. Страсти Марка, наоборот, самые
достоверные, самые древние и самые исторические. Вторая редакция в подобных
случаях всегда более очищена и в ней сказывается влияние предшествующих
предвзятых мнений. Черты, точно определяющие, не имеют большого значения для
поколений, не знавших первоначальных участников. Для них всего важнее рассказ с
округленными контурами и знаменательный во всех своих частях.
По всем данным, Марк писал свое Евангелие после смерти Петра. Папий
предполагает то же
самое, говоря, что Марк писал «по воспоминаниям» слышанное им от Петра. То же
самое говорит и Ириней. Если признать единство и целость всей книги, то это
явиться неоспоримым доказательством, так как там имеются явные намеки на
катастрофу 70-го года. Автор вкладывает в 13 главе в уста Иисуса род
откровения, в котором пересекаются предсказания о взятии Иерусалима и о будущем
конце мира. Это маленькое откровение, по нашему мнению, составленное отчасти с
намерением понудить верных переселиться в Пеллу, распространилось в
Иерусалимской общине около 68-го года. Конечно, в то время оно не заключало в
себе пророчества о разрушении храма. Автор иоаннического Апокалипсиса, хорошо
знакомый с христианским миром, еще не верил к концу 68 или к началу 69 годов в
возможность разрушения храма. Совершенно естественно, все составители
сборников, слов и рассказов о жизни Иисуса, принявшие упомянутое нами
откровение за пророчество, изменили его сообразно произошедшим событиям и
вложили в него точное предсказание разрушения храма. Вероятно, в первой
редакции еврейского Евангелия уже находилась речь Иисуса, заключавшая в себе
это откровение. В еврейском Евангелии, конечно, имелся также и параграф,
относящийся к убийству Захарии, сына Варахиина, зародившийся в предании около
того же времени, как вышеупомянутая речь с откровением. Марк, конечно, не
упустил такого характерного эпизода. Марк предполагал, что Иисус в последние
дни своей жизни имел ясновидение о гибели еврейской нации и принял время ее
гибели показателем того, сколько времени должно пройти до его второго
пришествия. «В те дни катастрофы увидят сына человеческого...» Подобное
выражение ясно указывает, что, когда автор писал, разрушение Иерусалима
совершилось и совершилось еще недавно.
С другой стороны, Евангелие от Марка составлено ранее, чем умерли все
очевидцы жизни Иисуса.
Отсюда ясно видно, в каких узких границах находится время возможного
составления этой книги. Многое указывает на первые годы затишья, последовавшие
за иудейской войной. Марк в то время мог быть немного старше пятидесяти пяти
лет.
По всей видимости, Марк составлял свой первый опыт греческого Евангелия в
Риме; это Евангелие,
несмотря на все его недостатки, заключало в себе все существенные черты
предмета. Таково древнее предание, и в нем нет ничего невероятного. Рим после
Сирии был главным пунктом христианства. Латинизмы встречаются у Марка гораздо
чаще, чем в каком-либо другом изложении Нового Завета. Библейские тексты, на
которые он ссылается, близки к текстам Семидесяти Толковников. Многие частности
указывают на то, что автор имел в виду читателей, мало знакомых с Палестиной и
еврейскими обычаями. Точные цитаты из Ветхого Завета, сделанные самим автором,
сводятся все к одной; пояснительные рассуждения, характеризующие Матфея и даже
Луку, отсутствуют у Марка; слово Закон ни разу не вышло из под его пера. Ничего
не дает повода думать, что к другому значительно отличающемуся от разбираемого
нами произведения относились слова Presbyteros Joannes, сказанные Папию
в первые годы второго столетия: Presbyteros говорил еще следующее: «Марк
стал толмачом Петра, записал точно, но без всякого порядка, все, что вспомнил о
словах и делах Христа. Сам он не слышал и не сопутствовал Господу; но
впоследствии, как я уже говорил, он сопутствовал Петру, который составлял свои
didascalies, соответственно требованием минуты, а не с намерением создать
сборник речей Господних». Марк нисколько не виноват в том, что написал
небольшое количество вещей, как он их помнил; он имел единственную заботу: не
упустить ничего слышанного им и не внести ничего ложного.
Глава VIII. Христианство и империя под властью
Флавия
Иудейская война не только не уменьшила значение евреев в Риме, но в
некоторых отношениях
увеличила его. Рим был самым еврейским городом в мире, он наследовал все
значение Иерусалима. Иудейская война пригнала в Италию тысячи рабов евреев.
Между 65 и 72 годами захваченные во время войны пленники
продавались массами. Притоны разврата были полны евреями и еврейками самых
знатных фамилий, что дало повод образованию легенд о романических встречах.
Помимо тяжелой поголовной подати, наложенной Веспасианом на евреев,
причинившей не одну обиду христианам, правление Веспасиана не было отмечено
никаким мучением для обеих
частей семьи Израиля. Мы уже видели, как новая династия не только не прониклась
презрением к евреям, а наоборот, благодаря иудейской войне, тесно связанной с
ее возвышением, она приняла на себя много обязательств по отношению к значительному
числу евреев. Заметим, что Веспасиан и Тит раньше, чем достигли власти, провели
четыре года в Сирии и завязали там обширные связи. Тиверий Александр — человек,
которому Флавии более всего были обязаны. Он продолжал занимать высокий пост в
государстве; его статуя находилась среди статуй, украшавших форум. Nec
meiere fas est! с гневом говорили старые римляне, раздраженные втиранием в
их среду людей Востока. Ирод Агриппа II, продолжавший царствовать и
чеканить монету в Тивериаде и Панее, жил в Риме на широкую ногу, окруженный
единоверцами, удивляя римлян пышностью и чванством, с какими он праздновал
еврейские праздники. В своих сношениях он выказывал некоторого рода широту, так
как имел секретарем зелота радикала Юста Тивериадского, который нисколько не
стеснялся есть хлеб человека, не раз обвиненного им в измене. Агриппа был
украшен принадлежностями преторства и получил от императора прибавку к своим
владениям со стороны Германа.
Его сестры Друзила и Вереника также жили в Риме. Вереника, несмотря на свой
зрелый возраст, настолько сильно господствовала в сердце Тита, что рассчитывала
выйти за него замуж, и, как говорят, Тит ей обещал; его удерживали только
политические соображения. Вереника помещалась во дворце и, несмотря на свое
благочестие была в открытой связи с разрушителем своей отчизны. Ревность Тита
была очень сильна и, по-видимому, послужила не менее политики причиной смерти
Цецины. Фаворитка-еврейка еще вполне пользовалась своими правами коронованной
особы. Некоторые дела были подсудны ее юрисдикции, и Квинтилиан рассказывает,
как перед ней он защищал дело, в котором она была одновременно судьей и одной
из тяжущихся сторон. Ее роскошь удивляла римлян; она устанавливала моды; кольцо
с ее пальца продавалось за бешеные деньги; но серьезные люди ее презирали и
громко называли кровосмешением ее отношение к брату Агриппе. В Италии, может
быть, в Неаполе, жили и другие Иродиане, между прочим Агриппа, сын Друзилы и
Феликса, погибший во время извержения Везувия. Все сирийские и армянские
династии, принявшие иудейство, находились с новой императорской семьей в
постоянных дружеских сношениях.
Около этого аристократического мира увивался изворотливый и осторожный
Иосиф. С самого своего поступления на службу к Веспасиану и Титу, он принял имя
Флавий и, по обыденной манере мелких душ, выполнял две противоположные роли:
рабски-почтительную по отношению к палачам его родины и хвастливую, когда дело
касалось национальных воспоминаний. Его домашняя жизнь, до тех пор мало
оседлая, наконец установилась. После своей измены, он сделал ошибку, приняв от
Веспасиана молодую пленницу из Кесарии, покинувшую его при первой возможности.
В Александрии он взял себе другую жену, имел от нее трех детей, из которых двое
умерли молодыми, около 74 года дал ей развод по несходству характеров, как
он говорил. Потом женился на еврейке с Крита, в которой, наконец, нашел все
совершенства и имел от нее двух детей. Его иудаизм был всегда широкого свойства
и делался все шире и шире; ему, вероятно, выгодно было заставить верить, что
даже в эпоху наиболее сильного галилейского фанатизма он был либерален и
сопротивлялся насильственному обрезанию, провозглашая право каждого поклоняться
Богу, согласно выбранному им культу. Эта идея о праве каждого выбирать самому
себе культ, неслыханная в Риме, завоевала себе почву и сильно содействовала
пропаганде культов, основанных на рациональных идеях о божестве.
Иосиф получил греческое образование, конечно, поверхностное, но он умел, как
ловкий человек, извлекать из него пользу; он читал греческих историков; это
чтение вызывало в нем соревнование, и он нашел возможным подобным же образом
написать историю последних несчастий своего отечества. Имея мало артистического
чутья, он не понял всей смелости своего предприятия и бросился вперед, как
человек, ни
в чем не сомневающийся, что часто случается с евреями, начинающими писать на
чужом для них языке. Он еще не имел привычки писать по-гречески и написал
сначала свой труд на сиро-халдейском языке, а потом выпустил его в греческом
издании, сохранившемся до нашего времени. Несмотря на свои заявления, Иосиф не
человек правды. Он обладает еврейским недостатком, недостатком, противоречащим
здоровой манере писать историю, крайним себялюбием. Тысячи забот охватывают
его: прежде всего необходимость понравиться своим новым господам, Титу, Ироду,
Агриппе; далее желание выставить себя и показать своим соотечественникам, косо
на него смотревших, что он действовал, побуждаемый только чистым патриотизмом.
Потом, во многих отношениях хорошее чувство побуждает его представить характер
своей нации в возможно менее компрометирующем виде в глазах римлян. Восстание,
утверждает он, было делом исступленного меньшинства; иудаизм — доктрина чистая,
высоко философская и безобидная в политике; умеренные евреи не только не
действовали сообща с сектантами, а, наоборот, были их первыми жертвами. Как
могут они быть непримиримыми врагами римлян, они, которые просят помощи и
защиты у римлян от революционеров? Эти систематические взгляды на каждой
странице нарушают мнимое беспристрастие историка.
Труд был представлен (по крайней мере Иосиф хочет на в этом убедить) на
цензуру Тита и Агриппы и, по-видимому, был ими одобрен. Тит будто пошел далее:
собственноручно подписал
экземпляр, долженствовавший служить образцом для указания, как, по мнению Тита,
следует рассказывать историю осады Иерусалима. Во всем этом заметно
преувеличение. Ясно только, что около Тита существовала еврейская партия,
льстившая ему и старавшаяся убедить его, что он не только не был жестоким
разрушителем иудейства, а, наоборот, хотел спасти храм, что иудейство погубило
само себя и во всяком случае во всем этом виден божественный приговор, а Тит
только был его орудием. Титу, очевидно, нравилось слушать развитие подобных
взглядов. Он охотно забывал свои жестокости и приговор, по всей вероятности
произнесенный им над храмом, когда сами побежденные старались внушить ему
невозможные оправдания. В глубине души у Тита было много человечности, и он
выказывал чрезвычайную умеренность; ему, конечно, нравилось, когда подобное
мнение распространялось в еврейских кругах; но в то же самое время ему
нравилось, когда в римских кругах рассказывали дело совсем в другом виде и
изображали его на стенах Иерусалима надменным победителем, дышавшим огнем и
смертью.
Чувство симпатии к евреям, по-видимому, существовавшее у Тита, должно было
распространяться также и на христиан. Иудаизм, как его понимал Иосиф, многими
своими сторонами приближался к христианству, в особенности христианизму
св. Павла. Большинство христиан, подобно Иосифу, осуждали восстание,
проклинали зелотов; они открыто выражали покорность римлянам. Подобно Иосифу,
они отводили второстепенное место ритуальной части Закона, а происхождение от
Авраама понимали в идейном смысле. Сам Иосиф относился благоприятно к
христианам и, по-видимому, симпатично отзывался о них. Вереника и брат ее
Агриппа относились к св. Павлу с чувством доброжелательного любопытства.
Таким образом, близкий к Титу кружок был скорее благосклонен, чем враждебен к
последователям Иисуса. Тем и объясняется неоспоримый факт, что в самой семье
Флавиев были христиане. Напомним, что семья Флавиев не принадлежала к высшей
римской аристократии; она принадлежала к так называемой провинциальной
буржуазии; она не разделяла предубеждений римской аристократии против евреев и
жителей Востока вообще, предубеждений, которые, как мы скоро увидим, взяли верх
при Нерве и повели почти к непрерывным преследованиям христиан в течение ста
лет. Эта же династия вполне признавала пользование публичным шарлатанством.
Веспасиан нисколько не стеснялся делать чудеса в Александрии, и когда вспоминал
о том, как фокусники играли большую роль в его судьбе, он, несомненно, смеялся
свойственным ему смехом скептика.
Обращения в новую религию, перенесшие веру в Иисуса в среду, близкую трону,
вероятно, произошли при Домициане. Римская церковь медленно восстанавливалась.
Стремление христиан, господствовавшее, вероятно, около 68 года, бежал из
города, на который постоянно обрушивалось пламя гнева Божия, ослабело.
Поколение, подкошенное резней 64 года, заменилось новыми лицами, постоянно
приезжавшими в Рим из других частей империи. пережившие резню при Нероне
свободно вздохнули; они почувствовали себя как бы во временном раю и сравнивали
свое положение с
положением евреев, перешедших Красное море. Гонения 64 года представлялись
им, как море крови, в котором все должны были задохнуться. Но Бог перемешал
роли: как фараона, он заставил их палачей упиться кровью, кровью гражданских
войн 68—70 годов, которая текла бурными потоками.
Точный список древних presbyteri или episcopi римской церкви
неизвестен.
Петр, если бы он был в Риме (чему мы верим), занимал исключительное положение
и, конечно, выражаясь точно, не имел преемников. Только сто лет спустя
епископат правильно установился, и тогда позаботились составить список
епископов, последовательных преемников Петра. Точные воспоминания имели только
о Ксисте, умершем около 125 г. Промежуток между Ксистом и Петром был
заполнен римскими presbyteri, оставившими по себе какое-нибудь имя.
После Петра поставили некоего Лина, о котором ничего определенного неизвестно,
потом Анеклета, имя которого впоследствии исказили и сделали из него двух лиц,
Клета и Анаклета.
Все более и более проявлялось, что римская церковь делается наследницей
иерусалимской церкви, и до известной степени заменяет ее. В ней был тот же дух,
то же традиционный и иерархический авторитет. Иудео-христианство господствовало
в Риме, как в Иерусалиме. Александрия еще не была великим христианским центром.
Даже Эфес и Антиохия не могли бороться против господства, которое столица
империи силой вещей все боле и более присваивала себе.
Веспасиан достигал глубокой старости, уважаемый серьезной частью населения
империи, залечивая среди глубокого мира, при помощи деятельного и способного
сына, раны, нанесенные Нероном и гражданской войной. Высшая аристократия, хотя
не сочувствовала семье способных, но незнатных выскочек, с довольно вульгарными
правами, поддерживала его и помогала ему. Наконец, избавились от ненавистной
школы Нерона, школы администраторов и военных. Честная партия, впоследствии, вслед
за жестоким правлением Домициана, окончательно достигшая власти при Нерве,
наконец, вздохнула свободно и почти торжествовала. Только сумасшедшие и
распутники Рима, любившие Нерона, смеялись над скупостью старого полководца, не
думая о том, что эта экономия была весьма понятна и, можно сказать, почти
похвальна. Государственная казна императора не была точно отделена от его
собственного состояния; а государственная казна при Нероне была расхищена.
Семья, не имеющая своего собственного богатства, как Флавий, достигши власти
при подобных обстоятельствах, попадала в очень затруднительное положение.
Гальба, принадлежавший к высшей аристократии, но более строгих нравов, уронил
себя в глазах окружающих, так как однажды, в театре, предложил игроку на
флейте, имевшему большой успех, пять динариев, вынутых из своего собственного
кошелька. Толпа приветствовала его песней:
Онисим прибывает из деревни, —
припев которой зрители хором повторяли. Не было возможности
понравиться этим дерзким людям иначе, как пышностью и заносчивыми манерами.
Легче простили бы Веспасиану преступление, чем его немного вульгарный здравый
смысл и некоторую неловкость, присущую обыкновенно бедным простым офицерам,
попавшим в большой свет, благодаря своим заслугам. Человеческая порода так мало
поощряет доброту и ее проявление у правителей, что можно удивляться, как еще
находятся совестливые люди для выполнения обязанностей королей и императоров.
Более тягостной чем оппозиция театральных ротозеев и обожателей памяти
Нерона, была оппозиция
философов или, правильнее сказать, республиканцев. Эта партия, властвовавшая в
течение тридцати шести часов после смерти Калигулы, приобрела после смерти
Нерона и в течение последней гражданской войны непредвиденное значение. Люди,
пользовавшиеся таким высоким уважением, как Гельвидий Приск и его жена Фанния
(дочь Трасея) отказывались от исполнения самых простых обычаев императорского
этикета и принимали по отношению к Веспасиану поведение надоедливое и
нахальное. Нужно отдать справедливость Веспасиану, что он с сожалением прибегал
к строгостям по поводу грубых провокаций, проявлявшихся только благодаря
доброте и простоте этого прекрасного властителя. Философы были вполне уверены,
что своими литературными намеками они защищают достоинство человека; они не
замечали, что в действительности защищали привилегии аристократии и
подготавливали зверское правление Домициана. Они хотели невозможного,
муниципальной республики, управляющей миром, гражданского духа в огромной
империи, состоящей из разнообразных и не находящихся на одном уровне племен. Их
безумие почти равнялось безумию тех, которые в наше время мечтали превратить
Париж в свободную коммуну среди Франции, Парижем же превращенную в монархию.
Серьезные умы, как Тацит, оба Плиния, Квинтилиан, хорошо видели пустоту этой
политической школы. Будучи полны уважения к Гельвидию, Приску, Рустикусу и
Синециону, они все-таки покинули республиканскую химеру. Стремясь улучшить
принципат, они достигли прекрасных результатов почти для целого столетия.
Увы! Принципат имел капитальный недостаток, он плачевно колебался между
диктатурой по избранию и наследственной монархией. Всякая монархия стремится
сделаться наследственной, не только по причине, называемой демократами семейным
эгоизмом, но и потому, что монархия может принести народу свойственную ей
пользу, только будучи наследственной. С другой стороны, наследственность
невозможна без германского принципа верности. Все римские императоры стремились
к наследственности, но наследственность никогда не шла далее второго поколения
и приносила только печальные плоды, и мир свободно вздохнул лишь тогда, когда,
благодаря особым
обстоятельствам, она заменилась усыновлением (наиболее подходящая система для
цезаризма), но это было не более, как случайность; Марк Аврелий не имел сына, и
все погибло.
Веспасиан главным образом, был озабочен этим вопросом. Тридцатидевятилетний
старший сын его Тит не имел сыновей. Второй, Домициан, 27 лет, также не
имел их. Честолюбие Домициана должно было удовлетвориться в виду подобных
надежд. Тит открыто объявил его своим наследником, выражая свое желание, чтобы
Домициан женился на его дочери Юлии Сабине. Но природа, во многих отношениях
так благоприятствовавшая этой семье, в данном случае сыграла нечто ужасное.
Домициан был негодяй, перед которым Калигула и Нерон могли показаться веселыми
шутниками. Он не скрывал своего желания свергнуть отца и брата. Веспасиан и
Муциен с трудом могли ему помешать испортить все.
Как всегда бывает с хорошими натурами, Веспасиан становился лучше по мере
того, как старел.
Даже его шутки, которые по недостатку образования были грубы, становились
меткими и тонкими. Ему пришли сказать о показавшейся на небе комете. «Это
касается парфянского короля, него длинные волосы», ответил Веспасиан. Когда его
состояние ухудшилось, он с улыбкой сказал: «Мне кажется, я становлюсь богом».
Он занимался делами до конца, и чувствуя упадок сил, сказал: «Император должен
умереть стоя». И действительно, он умер на руках тех, кто поддержал его;
великий пример твердого и мужественного поведения в смутное время, представлявшееся
почти безнадежным! Только евреи сохранили о нем память, как о чудовище,
заставлявшем стонать весь мир под тяжестью своей тирании. Несомненно,
существовала какая-нибудь раввинская легенда по поводу его смерти; он умер в
своей постели, говорили они, но не избег мучений, им заслуженных.
Тит наследовал ему без всяких затруднений. Добродетель Тита не была
глубокой, как добродетель Антонина и Марка Аврелия. Он старался быть
добродетельным, но иногда натура брала верх. Все-таки он заложил начало прекрасного
царствования, и, редкая вещь, Тит стал лучше, достигнув власти. Он имел большую
власть над самим собой и начал с наиболее трудной уступки общественному мнению.
Вереника нисколько не отказывалась от своей надежды выйти за него замуж. Во
всяком случае, она поступала так, как будто бы была уже его женой. Ее знания
еврейки, иностранки, «царицы» плохо звучали для уха истинных римлян, напоминая
Восток, и представляли непреодолимое препятствие ее дальнейшей карьере. Об этом
только и говорили в Риме, и по этому поводу была произведена не одна дерзкая
выходка. Однажды, при полном театре, циник по имени Диоген, проникший в Рим,
несмотря на декрет о высылке философов, встал и перед всем народом разразился
против
влюбленной пары целым потоком оскорблений; его бичевали. Другой циник, Герас,
надеялся отделаться тем же наказанием за подобную выходку, но ему отрубили
голову. Тит не без труда, но все-таки уступил общественному мнению. Разрыв был
тем более жесток, что Вереника этому сопротивлялась. Пришлось ее отослать.
Отношения императора с Иосифом и, по всей вероятности, с Иродом Агриппой
остались теми же, что и до разрыва. Сама Вереника тоже возвратилась в Рим; но
Тит уже не имел более с ней сношений.
Честные люди чувствовали себя оживающими. При помощи представлений и
некоторого шарлатанства удовлетворили народ и удерживали его в покое. Латинская
литература, после
смерти Августа находившаяся в затмении, начала возрождаться. Веспасиан серьезно
поощрял науку, литературу и искусство. Он впервые назначил профессоров, оплачиваемых
государством, и был, таким образом, создателем учительского персонала; во главе
этого знаменитого братства блистало имя Квинтилиана. Приторная поэзия
искусственных эпопей и трагедий влачила печальное существование. Талантливая
богема, как Марциал и Стаций, выдаваясь мелкими стихотворениями, возвышалась
над литературой низкой и без значения. Но Ювенал в чисто латинском жанре сатиры
достиг силой и оригинальностью неоспоримого господства. В его стихах дышит
высокий римский ум, если хотите, немного узкий, исключительный, но полный
традиций патриотизма, враждебный иностранному разврату. Мужественная Сульпиция
осмелиться впоследствии защищать философов против Домициана. Особенно
выдвинулись великие прозаики, отбросившие все излишества декламации, сохранившие
все неоскорбительное для слуха, внесшие чувство высшей морали и подготовившие
то благородное поколение, которое сумело найти Нерву и стать вокруг него,
которое создало правление философов Траяна, Адриана, Антонина и Марка Аврелия.
Плиний младший, так сильно сходный с развитыми умами нашего XVIII века;
Квинтилиан, знаменитый педагог, наметивший законы народного образования,
учитель наших учителей в искусстве воспитания; Тацит, несравненный историк, и
другие, равные ему, подобно автору «Диалога ораторов», чьи имена нам неизвестны
или сочинения утрачены, росли в работе или уже приносили плоды. Степенность,
полная возвышенности, уважение к законам морали и гуманности заменили высокую
распущенность Петрония и философию до крайности Сенеки. Их язык не так чист,
как во времена Цезаря и Августа, но в нем были широта и смелость, вынудившая
оценить его и подражать ему в современные столетия, создавшие умеренный тон
прозы с более декламаторской нотой, чем греческая.
Во время этого разумного и умеренного правления христиане жили в мире.
Церковь не вспоминала Тита как преследователя. Одно событие, произошедшее в его
правление, произвело особенно сильное впечатление: это извержение Везувия. В
79 году произошло событие, может быть, самое поразительное во всей вулканической
истории земли. Весь мир был взволнован. С тех пор, как человечество себя
помнило, оно не было свидетелем ничего подобного. Древний кратер, потухший с
незапамятных времен, возобновил свое действие с беспримерной силой. Мы видели,
как с 68 года христианская фантазия была поглощена идеей вулканических
феноменов, следы чего мы видим в Апокалипсисе. Событие 79 года также
прославленное иудео-христианскими ясновидящими, вызвало возрождение
апокалипсического духа. Особенно иудействующие секты смотрели на погибель
итальянских городов, как на наказание за разрушение Иерусалима. Бич Божий,
постоянно тяготевший над человечеством, до известной степени оправдывал
подобные фантазии. Необычайный ужас был произведен этими событиями. Половина
всех страниц, оставшихся после Диона Кассия, заняты подобными предсказаниями. В
80 году в Риме разразился пожар, которого не испытывали после пожара
64 года. Он продолжался три дня и три ночи; сгорел весь округ Капитолия и
Пантеона. Страшный мор внес опустошение в человеческий мир того времени; его
считали наиболее ужасной эпидемией из всех, когда-нибудь появлявшихся.
Землетрясения свирепствовали повсюду, и господствовал голод.
Выдержит ли Тит до конца свое обещание быть добрым? Вот чем интересовались.
Многие указывали на трудность сохранить роль «услады человеческого рода»,
утверждали, что новый цезарь последует примеру Тиверия, Калигулы, Нерона и,
начав хорошо, окончит очень скверно. Действительно, надо было иметь пресыщенную
душу разочарованного во всем философа, как Антонин и Марк Аврелий, чтобы не
поддаться искушениям неограниченной власти. Характер Тита был редкого свойства,
его попытка править при помощи доброты, его благородные иллюзии насчет
человечества его времени имели в себе нечто либеральное и трогательное; его
нравственность не
была устойчива, она была добровольная. Он сдерживал свое тщеславие, старался
придать своей жизни чисто объективные цели. Но философский и добродетельный
темперамент имеет большую цену, чем преднамеренная добродетель. Темперамент не
меняется, а намерение изменяется. Следовательно, имеем право предполагать, что
доброта Тита только последствие остановки развития; и можем поставить вопрос,
не изменился ли бы он через несколько лет, подобно Домициану.
Но это только ретроспективные предположения. Смерть избавила Тита от
испытания, которое продолжаясь слишком долго, могло оказаться фатальным для
него. Его здоровье видимо разрушалось. Он постоянно плакал, как будто
достигнув, несмотря на все препятствия, первого места в мире, он убедился в
суетности всего. Однажды, по окончании церемонии открытия Колизея, он
разразился плачем на глазах народа. Во время своего последнего путешествия,
направляясь в Риету, он был охвачен тоской. Заметили, как он, отдернув
занавеску носилок, взглянув на небо и поклялся, что не заслужил смерти. Может
быть, это происходило вследствие упадка сил и нервности, вызванных выполнением
взятой на себя роли; распущенная жизнь, которую он вел прежде, чем стал
императором, дает повод думать так. Может быть, это были порывы протеста
благородной души против судьбы, совершенно понятные в подобные времена. По
натуре он был любящим и сентиментальным человеком. Ужасная злоба брата убивала
его. Тит ясно видел, что если он не примет мир, Домициан предупредит его.
Мечтать о том, чтобы, получив империю, заставить себя обожать, видеть
осуществление своей мечты и убедиться в ее тщетности, понять, что в политике
доброта — ошибка и видеть перед собой зло, восставшее под видом чудовища,
говорящего: «Убей меня, или я тебя убью!» — какое тяжелое испытание для доброго
сердца! Тит не обладал ни жестокостью Тиверия, ни безропотностью Марка Аврелия.
Прибавим к этому, что его гигиенический режим был из самых худших. Во всякое
время и в особенности в своем доме в Риете, где вода была очень холодная, Тит
ежедневно принимал ванны, способные убить самого крепкого человека. Все это,
конечно, устраняет необходимость прибегать к предположению об отравлении для
выяснения его преждевременной смерти. Домициан не братоубийца в настоящем
значении слова; но он им был проявлением своей ненависти, зависти и ничем не
прикрытыми стремлениями. Его поведение с самой смерти отца было поведением
непрерывного заговорщика. Тит еще не совсем расстался с жизнью, когда Домициан
уже приказал всем бросить его и, вскочив на лошадь, торопливо поскакал в лагерь
преторианцев.
Весь мир был в трауре, но Израиль торжествовал. Эта смерть, не объясненная
истощением и философской меланхолией, не была ли явным правосудием небес над
разрушителем храма, над самым преступным человеком в мире. Раввинская легенда,
приняв, как всегда, ребяческий оборот, имела в себе некоторую долю правды.
«Злодей Тит», уверяли агадисты, умер в страшных мучениях, так как к нему в мозг
попала муха. Постоянно доверявшие общественным слухам, евреи и христиане того
времени верили в братоубийство. По их мнению, жестокий Домициан, убийца
Климента, гонитель святых, был убийцей брата; этот факт, как и отцеубийство
Нерона, послужил, как мы увидим далее, основой для новых символических
откровений.
Глава IX. Распространение христианства. —
Египет — Сибиллизм
Терпимость, которой пользовалось христианство во время правления Флавия,
благоприятствовала ее развитию. Антиохия, Эфес, Коринф и в особенности, Рим
были деятельными центрам, где имя Иисуса с каждым днем приобретало все большее
и большее значение и откуда новая вера разбрасывала свои лучи. Кроме
исключительных эвионитов в Ватанее, у всех иудео-христиан сношения с
обращенными язычниками становились более легкими день ото дня; предрассудки
падали, происходило слияние. Во многих городах существовало по два
пресбиториата и по два епископа, один для христиан из евреев, другой для
христиан из язычников. Предполагалось, что епископы христиан из язычников были
поставлены св. Павлом, епископы христиан из евреев — некоторыми из
апостолов Иерусалима. Правда, в
третьем или четвертом веке злоупотребляли этой гипотезой с целью выйти из
затруднения, в котором очутились церкви, когда захотели установить правильную
преемственность епископов, при противоречии традиции. Тем не менее,
двойственность некоторых из великих церквей, по-видимому, существовала в
действительности, так как обучение в каждой из двух фракций было настолько
различно, что один и тот же священник почти не мог преподавать в обеих то, в
чем они нуждались.
В особенности так обстояло дело, когда к различию происхождения
присоединялось различие языка, как в Антиохии, где одна группа говорила
по-гречески, другая по-сирийски. Антиохия, по-видимому, имела два списка
последовательных presbyteri, один идеально связанный со святым Петром,
другой — со святым Павлом. Оба списка были составлены тем же способом, как и
список епископов Рима. Взяли наиболее древние имена тех presbyteri,
которые помнили некоего Evhode, весьма почитаемого, и Игнатия, имевшего
еще большую известность и поставили эти два имени во главе двух епископов.
Игнатий умер в правление Траяна, а св. Павел последний раз видел Антиохию
в 54 году. По отношению к Клименту, Папию и ко многим другим великим
личностям второго и третьего христианских поколений: изменяли даты с целью
пользоваться честью иметь учреждения и обучение, установленные апостолами.
Египет, долгое время бывший много позади в деле христианства, получил первые
зародыши новой веры, вероятно
при Флавиях. Предание о проповеди Марка в Александрии одна из тех позднейших
выдумок, какими великие церкви пытались придать себе апостолическую древность.
В общих чертах жизнь Марка нам известна, — он направлялся в Рим, а не в
Александрию. Когда все великие церкви стали утверждать, что своими основателями
имеют апостолов, то и александрийская церковь, ставшая уже очень значительной,
в свою очередь пожелала пополнить недостаток титула благородства. А из всего
апостольского персонала один Марк оставался еще не занятым. Действительной
причиной отсутствии имени Египта в рассказах о Деянии Апостолов и в посланиях
св. Павла было существование в Египте прохристианства, долгое время не
допускавшего туда настоящего христианства. Там был Филон, там были терапевты,
там существовали доктрины, настолько схожие с доктриной, созданной Иудеей и
Галилеей, что Египет как бы не нуждался в последней. Впоследствии утверждали,
что терапевты были ничем иным, как христианами св. Марка, жизнь которого
будто бы написана Филоном. Это просто странная галлюцинация. Но в некотором
смысле подобное странное смешение не вполне лишено доли правды, как может
показаться с первого взгляда.
Христианство в Египте, по-видимому, долго носило неопределенный характер.
Члены старой терапевтической общины Мереотидского озера, если признать их
существование, должны были показаться святыми последователями Иисуса;
толкователи школы Филона, как например Аполлос, соприкасались с христианством,
даже вступали в него, но не оставались в нем; еврейские авторы апокрифических
книг в Александрии приближались к идеям, господствовавшим, как говорят, в
совете Иерусалима. Когда
евреи, охваченные подобными чувствами, слышали об Иисусе, им нечего было менять
убеждения, чтобы сочувствовать их ученикам. Братство устанавливалось само
собой. Интересный памятник этого особого духа в Египте представляет собой одна
из сибиллийских поэм, происхождение которой с большой достоверностью можно
отнести ко временам Тита или к первым годами правления Домициана. Критики с
одинаковым правом могли бы рассматривать ее как христианскую, ессейскую или
терапевтическую. Дело в том, что автор — еврейский сектант, колеблющийся между
христианством, баптизмом и ессеизмом, но более всего он охвачен главной идеей
сибиллистов, стремлением проповедовать язычникам монотеизм и нравственность под
покровом упрощенного иудаизма.
Сибиллизм возник в Александрии в то же самое время, когда апокалипсический
жанр нарождался в Палестине. Эти два параллельные способа обязаны своим
происхождением аналогичному настроению умов. Одной из отличительных черт
всякого апокалипсиса то, что он приписывается какой-нибудь знаменитости прошлых
веков. В подобные времена обыкновенно господствует мнение, что ряд великих
пророков уже закончился и
ни один из современных не может сравняться с прежними. Что же делает тогда
человек, желающий выразить свою идею и придать ей авторитет, которого не может
ей дать его собственное имя? Он выбирает одного из древних Божьих людей и смело
выпускает свою книгу под его именем. Это нисколько не смущает совесть
подделывателя, который ради распространения идеи, казавшейся ему истинной,
устранял свою собственную личность. Он был далек от мысли нанести обиду
древнему мудрецу, наоборот, он считал, что оказывает честь, приписывая ему
прекрасные мысли. Что же касается публики, то благодаря полному отсутствию
критики, она не делала ни одного возражения. В Палестине для подобных новых
откровений служили имена действительных или вымышленных личностей,
пользовавшихся всеми признанной репутацией святости, как Даниил, Енох, Моисей,
Соломон, Варух, Ездра. В Александрии, где евреи ознакомились с греческой литературой
и где они стремились приобрести интеллектуальное и нравственное влияние на
язычников, подделыватели выбирали имена известных греческих философов и
моралистов. Таким образом, публика увидела Аристобула, приводящего ложные
цитаты из Гомера, Гесиода и Лина, вскоре появились псевдо-Орфей,
псевдо-Пифагор, апокрифическая переписка Гераклита, нравственная поэма,
приписываемая Фоцилиду. Цель всех этих писаний одна и та же; проповедовать
идолопоклонникам деизм и предписания, называемые noachiques, т. е.
иудаизм, приспособленный для их употребления, иудаизм, низведенный до размеров
природной религии. Оставляли только два-три требования воздержания, которые в
глазах правоверного еврея представились бы как вполне естественные.
Сибиллы должны были невольно прийти в голову подделывателям, искавших
неоспоримых авторитетов, под прикрытием которых они могли представить дорогие
для них идеи грекам. В народе уже обращались маленькие поэмы, выдаваемые за
кумские и эритрейские, полные угроз, предсказывающие катастрофы разным странам.
Эти произведения имели огромное влияние на воображение, особенно, когда
случайное стечение обстоятельств, по-видимому, подтверждало их пророчество; они
были составлены
размером древних гекзаметров на языке, как бы сходном с языком Гомера. Еврейские
подделыватели приняли тот же размер, а чтобы усилить иллюзию у доверчивых
людей, помещали то тут то там в своем тексте некоторые из угроз, считавшихся
произнесенными девственными прорицательницами глубокой древности.
Апокалипсической формой в Александрии был сибиллизм. Когда еврей, друг добра
и правды, этой терпимой и
симпатичной школы, хотел обратиться к идолопоклонникам с предостережением и
советом, он заставлял говорить пророчество языческого мира, чтобы придать своим
предсказаниям ту силу, которой иначе они не имели бы. Он заимствовал тон
эритрейских оракулов и старался подражать традиционному стилю пророческой
поэзии греков, брал несколько рифмованных угроз, производивших сильное
впечатление на народ, и окружал их благочестивой проповедью. Повторим опять,
что подобный обман с добрыми намерениями не смущал никого. Рядом с еврейской
подделкой классиков, подделкой, заключавшейся в том, что она вкладывала в уста
греческих философов и моралистов правила, которые желала вбить в голову,
начавшейся около второго века до появления Иисуса, — основался
псевдо-сибиллизм, имевший в виду те же идеи. Во времена Флавиев, некий
Александрин вновь предпринял перевод древних оракулов, давно прерванный, и
прибавил к ним несколько новых страниц. Эти страницы обладают поразительной
красотой.
«Счастливы те, кто почитает великого Бога, не сделанного человеческими
руками, не имеющего храмов, которого глаз смертный не может видеть и руки
измерить! Счастливы те, которые молятся перед едой и питьем, которые при виде
храма выказывают протест и чувствует отвращение к алтарям, оскверненным кровью!
Убийства, позорная нажива, блуд, противоестественные преступления возбуждают в
них отвращение. Другие люди, преданные своим извращенным желаниям, преследуют
этих святых
людей насмешками и оскорблениями; в своем безумии они обвиняют их
преступлениях, которые совершили сами; но правосудие Божие совершиться.
Нечестивые будут низвергнуты во тьму; благочестивые, наоборот, поселятся на
плодородной земле, Божий Дух даст им жизнь и милость».
После этого начала следуют существенные части всех апокалипсисов: сначала
теория о последовательности империи, род философии истории, подражание Даниилу;
потом небесные знамения, землетрясение, острова, поднимающиеся со дна моря,
войны, голод, — все, указывающее близкое приближение Божьего суда. Автор в
особенности обращает внимание на землетрясения в Лаодикее, случившееся в
60 году, в Мире, морские наводнения в Ликии, имевшие место в 68 году.
Затем ему представляются несчастия Иерусалима. Могущественный царь, убийца
своей матери, бежит из Италии, неизвестный, переодетый рабом, и скрывается за
Евфратом. Укрывшись там, он ждет, а соискатели империи ведут кровавую войну.
Один из римских вождей предает огню храм и уничтожает еврейскую нацию. Утроба
Италии прорывается; пламя взвивается, подымается к небу, пожирая города и
уничтожая тысячи человеческих жизней; черная пыль наполняет атмосферу, а
красные lapilli, как бы из сурика, падают с неба. Тогда, надо надеяться,
люди узнают гнев всевышнего Бога, гнев, обрушившийся на них за то, что они
уничтожили племя благочестивых людей. В дополнение к несчастьям беглый царь,
прятавшийся за Евфратом, обнажить свой меч и перейдет Евфрат с мириадами людей.
Отсюда видно, поскольку это произведение служить непосредственным
продолжением Апокалипсиса Иоанна. Восприняв идеи ясновидца 68 или 69, сибиллист
81 или 82 года, поддержанный в своих мрачных пророчествах извержением
Везувия, поднимает народное поверье о Нероне, живущем за Евфратом, и
предсказывает его скорое возвращение. Некоторые указания дают повод
предполагать появление лже-Нерона при Тите. Более серьезная попытка имела место
в 88 году и чуть было не повела к войне с парфянами. Но пророчество нашего
сибиллиста произнесено раньше этого времени. Он предсказывает ужасную войну;
однако, дело лже-Нерона при Тите, если оно имело место, не было серьезно, а
лже-Нерон 88 года вызвал только ложную тревогу.
Когда благочестие, закон, справедливость окончательно исчезнут, когда никто
не будет заботиться о благочестивых людях, когда все будут стремиться убивать
их, погружать свои руки в их кровь, тогда увидят конец божественного терпения:
дрожа от гнева, Бог уничтожит человечество посредством обширного пожара.
«О! Несчастные смертные, измените свое поведение; не вызывайте последний
припадок гнева Божьего; оставьте мечи, ссоры, убийства, насилия, омойте в
текущей воде все ваше тело; прострите ваши руки к небу, просите прощения ваших
прошлых дел и излечите своими молитвами ваше пагубное нечестие. Тогда Бог
оставит свое решение и не погубит вас. Его гнев утешится, если вы воспитаете в
ваших сердцах драгоценное благочестие. Но, если, упорствуя в вашем злом духе,
вы не послушаете, если, сохраняя свое безумие, вы дурно примете эти
предостережения,
огонь распространится по земле, и вот какие будут знамения. На восходе солнца
огненные мечи на небе, звуки трубы; весь мир услышит ужасный рев и грохот.
Огонь сожжет землю, все человечество погибнет, мир будет превращен в черноватую
пыль.
Когда все будет пеплом и Бог погасит ужасный пожар, им зажженный, Всемогущий
даст новый вид костям и пеплу людей и восстановить их в прежнем виде. Тогда
настанет суд, на котором Бог будет судить мир. У тех, которые предавались
нечестию, земля, раскрывшаяся над их головами, закроет их опять, они будут
низвергнуты в земли Тартара и геены, сестры Стикса. Наоборот, те, которые
придерживались благочестия, воскреснув в мире великого вечного Бога, на лоне
нетленного
счастья; Бог в награду за их благочестие даст им ум, жизнь и милость. Тогда все
увидят себя с глазами, устремленными на очаровательный свет никогда не
заходящего солнца. О счастлив человек, который доживет до тех времен!»
Был ли христианином автор этой поэмы? Сердцем, конечно, был, но по-своему.
Критики, видящие в этом произведении последователей Иисуса, опираются в своих
утверждениях, главным образом, на призыв, приглашающий язычников обратиться и
омыть свое тело в текучей воде. Но крещение не было исключительной
принадлежностью христианства. Рядом с христианами существовали секты баптистов
и гемеробаптистов, к которым более подходит это сибиллийское стихотворение,
потому что христианское крещение производится раз в жизни, тогда как крещение,
о котором говорится в поэме, было как и молитва, его сопровождающая, средством
омовения грехов, таинством, могущим повторяться и которое каждый совершал сам
над собой. Было бы непонятно, как в христианском апокалипсисе, почти в двести
строк, написанном в начале правления Домициана, ни разу не упоминается о
воскресшем Иисусе, появляющемся в виде Сына человеческого на небесных облаках
судить живых и
мертвых. Прибавим к этому употребление мифологических выражений, никогда не
встречавшихся у христианских писателей первого века, искусственный стиль,
подделку древнего, геометрического стиля, указывающий на чтение мирских поэтов
и долгое пребывание в грамматических школах Александрии.
Сибиллийская литература, по-видимому, зародилась в общинах ессеев или
терапевтов; а терапевты, ессеи, баптисты и сибиллисты жили в мире идей, весьма
аналогичных христианским идеям и отличались от последних только культом
личности Иисуса. Несомненно, впоследствии все эти еврейские секты были
поглощены церковью. Постепенно евреи пришли к тому, что представляли из себя
только два класса: с одной стороны, еврей — строгий блюститель Закона,
тамлмудист, казуист, одним словом, фарисей; с другой стороны, еврей широкий,
низводящий иудаизм к некоторого рода природной религии, открытой для
добродетельных язычников. Около 80 года еще существовали, особенно в
Египте, секты, державшиеся подобной точки зрения и не примыкавшие к Иисусу. Но
скоро их не стало, и Церковь включила в себя всех, желавших уклониться от
преувеличенных требований Закона и вместе с тем остаться в духовной семье
Авраама.
Книга, считающаяся четвертой в собрании сибиллических книг, не единственное
в своем роде произведение эпохи Домициана. Предисловие ко всему собранию этих
книг, сохраненное нам Феофилом, антиохийским епископом
(конца II века), во многом похоже на четвертую книгу и оканчивается
таким же образом: «Огненный смерч разразится над вами; пламенные факелы будут
вечно жечь вас; но те, которые будут поклоняться истинному бесконечному Богу,
наследуют жизнь, вечно обитая в радостных садах рая, вкушая сладкий хлеб,
спускающийся со звездного неба». Этот отрывок на первый взгляд представляет
некоторыми выражениями признаки христианства; но у Филона встречаются выражения
вполне аналогичные. Зарождающееся христианство, помимо божественной воли,
приписываемой Иисусу, имело так мало своих специальных черт, что строгое
различие между христианским и нехристианским становится весьма
затруднительным.
Характерной частностью сибиллийских апокалипсисов служит идея о кончине мира
всеобщим пожаром. Многие
из библейских текстов наводят на эту мысль. Однако, она не встречается в
большом христианском апокалипсисе, носящем имя Иоанна. Первые следы встречаются
во втором послании Петра, написанном, как предполагают, гораздо позднее.
Упомянутое убеждение, по-видимому, развилось в александрийских кругах и, можно
предполагать отчасти имеет свое начало в греческой философии; многие школы, а в
особенности школы стоиков, были убеждены в уничтожении мира огнем. Ессеи
восприняли это убеждение, и оно скоро стало основанием всех писаний,
приписываемых сибиллам, пока подобная литературная фикция продолжала служить
формой для выражения фантазии умов, озабоченных будущим. Именно там и у
лже-Гитаспа христианские ученые разыскали ее. Вот авторитет предполагаемых
ораторов, которых они наивно приняли за откровение. Воображение языческой толпы
охватывалось ужасами того же рода, которым также пользовались многие
лже-пророки.
Анниан, Авилий, Кердон и Прим, считающиеся преемниками св. Марка, были
несомненно древние presbyteri, имена которых сохранились; их превратили в
епископов, когда признали епископат божественным установлением и когда каждая
епископальная кафедра должна была указать непрерывный ряд преемников от
апостольского лица,
предполагаемого основателя. Как бы то ни было, александрийская церковь имела
определенный характер. Она была антиеврейская; это из ее среды, как мы увидим,
через 14—15 лет появилось первое энергичное требование полного разделения
между христианством и иудейством, трактат, известный под именем «Послания
Варнавы». Но уже позже, через 50 лет, появилось нечто другое, когда зародился
гностицизм, объявивший иудаизм творением дурного бога, а главной миссией
Иисуса, низвержение Иеговы. Главная роль Александрии, и если хотите, Египта в
развитии христианской теологии ясно обрисовалась тогда. Появился новый Христос,
также похожий на того, которого мы знаем, как галилейские притчи похожи на мифы
Осириса или на символы матери Аписа.
Глава X. Греческое Евангелие пополняется
и исправляется (Матфей)
Недостатки Евангелия Марка и значительные пробелы в нем день ото дня
становились чувствительнее. Те, кто знали прекрасные речи Иисуса в том виде, как
они передавались сиро-халдейскими писаниями, сожалели, что предание, написанное
согласно Петру, так сухо. Не только лучшие проповеди были урезаны, то там
отсутствовали многие места в жизни Иисуса, считавшиеся существенно-важными.
Петр, верный старым идеям первых годов христианства, придавал мало значения
генеалогии и рассказам о рождестве Иисуса. А, между тем, именно в этом-то
направлении работало христианское воображение. Создалась целая масса новых
рассказов, и чувствовалась потребность в новом полном Евангелии, в котором к
имевшемуся у Марка было бы прибавлено все, что знали или думали, что знали,
лучшие хранители преданий на Востоке.
Наше Евангелие от Матфея создалось так: автор взял за основание своей работы
Евангелие Марка. Он следует ему в плане, порядке, характерных выражениях
настолько, что не может быть сомнения в том, что он имел перед глазами или в
памяти произведение своего предшественника. Буквальные совпадения до мельчайших
подробностей целых страниц иногда наводят на мысль, что автор обладал
манускриптом Марка. С другой стороны, перемена слов, многочисленные
перемещения, некоторые ощущения, причину которых невозможно объяснить, дают
повод думать, что автор работал по памяти. Но это не имеет большого значения.
Важно указание так называемого текста от Матфея на предварительное
существование текста Марка, которого первый является только дополнением. Он его
пополнил двумя способами: во-первых, включил длинные речи, придававшие цену
еврейским Евангелиям, во-вторых, вставил более современные ему предания, плод
постепенного развития легенды, которым христианство придавало уже огромную
ценность. Вторая редакция Евангелия вместе с тем обладает большим единством
стиля; одна и та же рука чувствуется во всех разнообразных отрывках, вошедших в
текст. Это единство даст повод думать, что места, не входившие в текст Марка,
автор брал прямо с еврейского. Если бы он пользовался переводом, то замечалось
бы различие стиля между основной частью и вставленными местами. К тому же,
требования того времени скорее направлялись в сторону переделки, а не перевода
в настоящем смысле. Библейские цитаты псевдо-Матфея дают повод думать, что он
одновременно пользовался еврейским текстом (или одним из арамейских толкований)
и переложением Семидесяти Толковников. Некоторая часть его толкований имеет
смысл только на еврейском. Автор вставлял большие речи Иисуса своеобразным
образом. Брал ли он их из собрания изречений, когда-либо существовавших в
преданиях, брал ли он их вполне готовыми из еврейского Евангелия, он помещал их
в виде больших вставок в рассказ Марка, для чего и раздвигал в нужных местах
этот рассказ. Главная из речей, «Нагорная проповедь», очевидно, составлена из
разных отрывков, не имеющих между собой никакой связи и соединенных
искусственно. Глава XXIII содержит в себе все сохраненные преданием упреки
Иисуса, высказанные им фарисеям при разных обстоятельствах. Семь притч
главы XIII, конечно, не были сказаны Иисусом в один день и одна за другой.
Позволим себе сделать примерное указание, которое точнее передает нашу мысль.
Прежде, чем было составлено первое Евангелие, существовали сборники речей и
притч, где изречения Иисуса были распределены в том или другом порядке по чисто
внешним причинам. Автор первого Евангелия, найдя эти сборники уже готовыми,
вносил их в текст Марка, не разрывая тонкой нити, их связывающей. Иногда текст
Марка, несмотря на свою краткость в том, что касалось речей, содержал некоторые
части тех проповедей, которые новый составитель взял целиком в сборник логий. В
результате — повторения. По большей части новый составитель мало обращал
внимания на эти повторения; а иногда избегал их посредством сокращений,
перемещений и некоторыми искусными оборотами стиля.
Вставка преданий в новый текст, не имевшихся в старом, произведена
псевдо-Матфеем еще более
резким способом. Имея в руках несколько рассказов о чудесах и исцелениях, не
вполне похожих на имеющиеся у Марка, автор предпочитал повторение риску
опустить то, что, вводя полученные из разных мест отрывки, он может впасть в
противоречие и запутать рассказ. Вследствие этого многие обстоятельства темны в
том месте книги, в которое они внесены, и объясняются только дальнейшим ходом
всей книги; имеются намеки на события, о которых ничего не говорится в
исторической части произведения. От этого получается странная двойственность
Евангелия: два исцеления двух слепых; два исцеления немого бесноватого; два
умножения хлебов; две просьбы чудесных знамений; два назидания против соблазна;
два изречения против развода. Отсюда, может быть, и получил свое начало прием
вводить все парами, который производит впечатления двойного зрения рассказа:
два слепых Иерихона и два других слепых; два бесноватых страны Гергесинской;
два ученика Иоанна; два ученика Иисуса, два брата. Гармонистическое толкование
принесло свои обыкновенные результаты, многословие и тяжеловесность. Иногда
заметны свежие надрезы, результат того способа, которым производились вставки.
Так, рассказ о чуде с Петром (Матфей, XIV, 28-31), которого нет у Марка,
вставлен между §§ 50 и 51 главы VI Марка; таким образом, края
вставки вполне заметны. То же самое можно сказать насчет чуда о статере, об
Иуде, указавшем на самого себя, и об Иуде же, спрошенном Иисусом, об Иисусе,
порицающем Петра за употребление меча, об Иуде, кончающим жизнь самоубийством,
о сне жены Пилата и т. п. Если вынуть все эти места, плод позднейшего
развития легенды об Иисусе, то остался бы только текст Марка.
Таким образом, в евангельский текст вошло много легенд, отсутствовавших у
Марка: генеалогия (I, 1-17), сверхъестественное рождение (I, 18-25),
посещение волхвов (II, 1-12), бегство в Египет (II, 13-15), избиение
в Вифлееме (II, 16-18), Петр, идущий по водам (XIV, 28-31),
прерогативы Петра (XVI, 17-19), чудесное нахождение монеты во рту рыбы
(XVII, 24-27), скопцы царства Божия (XIX, 11-12), волнение Иерусалима
при входе Иисуса (XXI, 10-11), иерусалимские чудеса и хвала младенцев
(XXI, 14-16), несколько легендарных мест об Иуде, в особенности об его
самоубийстве (XXVI, 25-50; XXVII, 3-10), призыв положить меч в ножны
(XXVI, 52-53), вмешательство жены Пилата (XXVII, 19), Пилат,
умывающий руки, и еврейский народ, берущий на себя ответственность за смерть
Иисуса (XXVI, 25), разорванная великая завеса храма, землетрясения и
воскресение святых в момент смерти Иисуса (XXVII, 51-53), стража,
поставленная у могилы и подкуп солдат (XXVII, 62-66; XXVIII, 11-15).
Во всех этих местах цитаты сделаны по Семидесяти Толковникам. Вообще
составитель пользовался греческим текстом Библии; но когда переводил еврейское
Евангелие, то полагался на его толкования, которые не могли основываться на
Семидесяти Толковниках.
Некоторого рода излишества в употреблении чудесного, вкус все к более и
более поразительным чудесам, стремление представить церковь организованной и
дисциплинированной уже во дни жизни Иисуса, все возрастающее отвращение к
евреям побудили вставить большинство из упомянутых дополнений в первоначальный
текст. Как мы уже говорили, бывают такие периоды в развитии догмы, когда дни
равняются векам. Через неделю после смерти Иисуса уже составилась обширная
легенда; еще при его жизни большинство мест, нами указанных, было написано
вперед. Главный фактор создания еврейской агады — аналогии, выводимые из
библейских текстов. Это и помогло заполнить многие пробелы в воспоминаниях.
Например, самые разнообразные слухи распространились по поводу Иуды. Одна из
версий скоро сделалась господствующей; Ахитофель, изменивший Давиду, сделался
прототипом. Признали, что Иуда повесился также, как и он. Один параграф у
Захарии дал идею о тридцати серебряниках, которые были брошены в храм, а также
и о поле горшечника и рассказ был готов.
Стремление к аналогии также послужило обильным источником анекдотов и
вставок. Уже появились возражения против мессианства Иисуса и требовали ответа.
Иоанн Креститель, говорили неверующие, не верил или перестал верить в него;
города, в которых, как сообщалось, он творил чудеса, не уверовали в него;
ученые и мудрецы наши смеялись над ним; если он и изгонял бесов, то только
силою Вельзевула; он обещал знамения на небе и не дал их. — На все имелся
ответ. Льстили демократическим инстинктам толпы. Это не нация отвергла Иисуса,
говорили христиане, а высшие классы, всегда эгоистичные не признали его.
Простой народ был бы за него; вожди употребляли хитрость, чтобы захватить его,
так как они боялись народа. «Это вина правительства», вот объяснение, во все
времена легко воспринимаемое.
Рождение Иисуса и его воскресение служили поводом к бесконечным возражениям
среди людей с неподготовленным сердцем. Никто не видел его воскресения; евреи
утверждали, что друзья Иисуса унесли его труп в Галилею. На это отвечали басней
о страже, которая, подкупленная евреями, рассказывала о похищении учениками
тела Иисуса. Относительно рождения Иисуса два противоположных мнения стали
выясняться; но так как они оба
отвечали потребностям христианской веры, их по возможности привели к
соглашению. С одной стороны требовалось, чтобы Иисус был потомком Давида; с
другой не хотели, чтобы его зачатие произошло естественным человеческим
образом. Показалось бы неестественным, если бы тот, кто не жил, как все люди,
родился бы также, как и все люди. Происхождение от Давида устанавливалось
посредством генеалогии, прикрепившей Иосифа к родословному дереву Давида. Иосиф
— отец Иисуса; следовательно, если хотели связать Иисуса с родом Давида, надо
было установить связь Иосифа с Давидом. Но в этом заключалось неудобство для
гипотезы о сверхъестественном зачатии. Иосиф и его предполагаемые предки ничем
не содействовали рождению Иисуса. Скорее следовало Марию связать с царским
родом; однако, никакой попытки не было сделано в этом направлении в первом
веке, так как генеалогия, очевидно, была определена ранее, чем окончательно
установилось убеждение, что рождение Иисуса не есть последствие обыкновенного
союза двух лиц разного пола, когда еще не отрицали за Иосифом полных прав отца.
Еврейское Евангелие, по крайней мере в период, о котором мы говорим, всегда
предполагало Иисуса сыном Иосифа и Марии; святой Дух по этому Евангелию был для
Иисуса-Мессии (лица отдельного от Иисуса-человека) матерью, а не отцом.
Евангелие от Матфея, наоборот, останавливается на совершенно противоположной
комбинации. В нем Иисус — сын Давида по Иосифу, хотя Иосиф и не отец его. Из
этого затруднения автор выпутывается чрезвычайно наивным образом. Появляется
ангел и рассеивает сомнения Иосифа, вполне понятные в подобном странном случае.
Генеалогия, помещенная в Евангелии от святого Матфея, конечно, не
произведение автора этого Евангелия. Он взял ее из какого-нибудь ранее
существовавшего документа.
Заключалась ли она в еврейском Евангелии? Можно сомневаться. Большая часть
еврейских христиан Сирии продолжала держаться текста, в котором не было
подобных генеалогий; но, вместе с тем, некоторые из очень древних назарянских
манускриптов имели в виде предисловия sepher toledoth. Склад генеалогии
Евангелия от Матфея еврейский; способ письма собственных имен не тот как у
Семидесяти Толковников. Впрочем, генеалогия, как мы видели, была по всей
вероятности, произведением родных Иисуса, удалившихся в Ватанею и говоривших
по-еврейски. Достоверно только одно, что в составлении этих генеалогий не было
ни большого единства, ни большого авторитета; до нас дошли два противоречивые
между собой способа связать Иисуса с последними из известных представителей
дома Давидова. Ничего нет невероятного в том, что отец и дед Иосифа были
известны. За исключением их, все от Зоровавеля до Иосифа было сфабриковано. Так
как после пленения библейские писания не сообщают уже хронологических данных,
то автор генеалогии счел этот период времени гораздо более коротким, чем он на
самом деле был, и поместил мало поколений. От Зоровавеля к Давиду пользовались
Паралипоменоном не без некоторых неточностей и мнемонических странностей. Книга
Бытия, книга Руфь и Паралипоменон устанавливают генеалогическое дерево до
Давида. Странное желание у автора генеалогии, помещенной в Евангелии Матфея, в
виде исключительной привилегии насильно ввести в восходящую линию от Иисуса
четырех жен-грешниц, неверных или такого поведения, которое фарисей мог бы
осудить, Тамару, Рахаву, Руфь и Версавию. Это могло служить указанием грешникам
никогда не терять надежды войти в семью избранных. Генеалогия Матфея вводит в
число предков Иисуса, потомков Давида, царей иудейских, начиная с Соломона; но
вскоре эта генеалогия перестала нравиться, на ней был слишком сильный отпечаток
нечестивой славы, и Иисуса связали с Давидом через малоизвестного сына
последнего, Нафана, по линии, параллельной царям иудейским.
К тому же, убеждение в сверхъестественном зачатии, с каждым днем принимая
все большие размеры, отводило вопрос о телесном отце и предках Иисуса на второй
план. Из одного параграфа у Исаии, плохо переданного Семьюдесятью Толковниками,
делали вывод о рождении Мессии от Девы. Bсe свершил Святой Дух, Дух Бога.
По-видимому, Иосиф действительно был довольно стар, когда родился Иисус; Мария
же, его вторая жена, могла быть очень молодой. Разница в возрасте облегчала
появление идеи о чуде. Конечно, легенда создалась бы и без этого; но так как
миф слагался в среде, знавшей семью Иисуса, то подобное обстоятельство, как
старый муж и молодая жена, имело большое значение. В еврейских рассказах часто
сказывается стремление отменить божественное могущество слабостью орудия,
которое оно употребляет для своих целей. Великие люди рождались от старых или в
течение долгого времени бесплодных родителей. Легенда о Самуиле породила
легенды об Иоанне Крестителе, об Иисусе и о самой Марии. С другой стороны, это
давало повод к возражениям недоброжелателей. Грубая басня, выдуманная
противниками христианства, делавшая отцом Иисуса солдата Пантеру легко создалась,
благодаря рассказам христиан, описывавшим подозрительный факт рождения ребенка
без участия мужа. Вышеупомянутая басня ясно доказывает стремление евреев во
II-м веке, но начиная с І-го, представить незаконным рождение Иисуса.
Потому-то, говорили они, и помещаются с таким чванством во главе книги toledoth
Иисуса имена Тамары, Рахавы, Версавии, а опущены имена Сары, Ревекки и Лии.
Рассказы о детстве Иисуса, отсутствующие у Марка, ограничиваются у Матфея
эпизодом с волхвами, связанным с преследованием Ирода и избиением младенцев.
Все это, по-видимому, создалось в Сирии. Гнусная роль, приписываемая Ироду,
очевидно, выдумка родных Иисуса, укрывшихся в Ватанее. Эта маленькая группа
людей, несомненно, была источником ненавистнических клевет против Ирода. Басня
о позорном происхождении его отца, опровергаемая Иосифом и Николаем Дамасским,
по-видимому, вышла оттуда. Ирод превратился в козла отпущения всех недовольств
христиан. Что же касается опасностей, окружавших, как предполагали, детство
Иисуса, это подражание детству Моисея, которого тоже хотел убить царь, и он
должен был спасаться за границу. С Иисусом случилось то же, что и со всеми
великими людьми. Ничто неизвестно об их детстве, по очень простой причине, так
как нельзя
предвидеть будущую знаменитость ребенка; недостаток сведений пополняют
анекдотами, придуманными на месте. Кроме того, фантазия склонна представлять
себе людей ниспосланных провидением, выросшими среди окружавших их опасностей,
только благодаря особому покровительству Неба. Народный рассказ, относящийся к
рождению Августа, и некоторые жестокости Ирода могли послужить основанием для
легенды об избиении младенцев в Вифлееме.
В удивительно наивно составленном изложении Евангелия Марка имеются
странности, грубости, трудно объяснимые места, вызывающие возражения. Матфей
старается отделать и сгладить детали. Например, сравнить
Марка, III, 31-35 и Матфея, XII, 46-50. Второй исключает
мысль, что родители Иисуса, считая его сумасшедшим, хотели связать его.
Поразительная наивность Марка, VI, 5: «Он не мог там
(в Назарете) совершить никакого чуда и т. д.» смягчена у Матфея,
XIII, 58: «он там свершил много чудес». Странный парадокс у Марка:
«Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не
получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, матерей,
братьев, сестер, детей и земель, a в веке грядущем жизни вечной» превратился у
Матфея: «всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или жену,
или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную».
Приписываемое женщинам у Марка побуждение посетить могилу, ясно указывающее,
что они не ожидали воскресения, заменено у Матфея ничего не значащим выражением.
Книжник, спрашивающий у Иисуса о первой из всех заповедей, предлагает свой
вопрос у Марка с благим намерением. У двух других евангелистов он предлагает
его с целью испытать Иисуса. Время шло вперед, и уже не могли признать за
книжником возможности действовать без хитрости. Эпизод, в котором молодой богач
обращается к Иисусу со словами: «учитель благий», а Иисус отвечает «никто не
благ, как только Бог», впоследствии показался соблазнительным. Матфей
представил его в менее соблазнительном виде. Способ, каким приносятся в жертву
ученики у Марка, также смягчен у Матфея. Наконец, последний вводит бессмыслицы
с целью добиться патетического эффекта. Гуманный обычай давать осужденным вино
превращается у него в изощрение жестокостей для подтверждения выполнения
пророчества.
Слишком живая горячность Марка, таким образом, сглажена; линии нового
Евангелия шире, правильнее и идеальнее. Количество чудесного увеличилось, но
чудесное стало как бы более приемлемым. Чудеса не так тяжело рассказаны;
некоторые излишние подробности отброшены. Материализм в чудесах, употребление
натуральных средств для совершения чудес, характерная черта Марка, исчезли или
почти исчезли у Матфея. Сравнительно с Евангелием от Марка, Евангелие,
приписываемое Матфею, указывает на усовершенствование вкуса и такта. Многие
неточности исправлены; слабые в эстетическом отношении или необъяснимые
частности отброшены или
выяснены. Часто считали, что Марк сократил Евангелие Матфея. Совершенно
обратно; только благодаря вставке речей, размеры сокращения значительнее
оригинала. Сравните рассказы о гергесянском бесноватом, о капернаумском
расслабленном, о дочери Иаира, о кровоточивой, о ребенке-эпилептике, и вы
убедитесь в том, что мы говорим. Часто Матфей соединяет в один рассказ
обстоятельства, составляющие у Марка два эпизода. Некоторые рассказы на первый
взгляд представляющиеся принадлежащими ему, в действительности ничто иное как
более длинные рассказы Марка, обнаженные и сокращенные.
Особенно по отношению к нищенству заметны у Матфея предосторожность и
беспокойство. Во главе всех небесных блаженств Иисус смело поместил нищету.
«Блаженны нищие», вероятно, были первыми словами, слетевшими с его божественных
уст, когда он начал говорить с авторитетом. Большинство изречений Иисуса (как
случается всегда, когда хотят дать мысли живую форму) давали повод к
недоразумениям; чистые эвиониты делали из вышеупомянутого изречения ложные
выводы. Составитель нашего Евангелия, дабы предупредить некоторые
преувеличения, прибавил одно слово. «Нищие» в обыденном смысле превратились в
«нищих духом», т. е. в благочестивых израильтян, играющих в мире скромную
роль и представляющих контраст с гордым видом могущественных данного времени.
Другое изречение «блаженны алчущие» превратилось в «блаженны алчущие правды».
Таким образом, прогресс мысли очень заметен у Матфея; у него проглядывает
много задних
мыслей, стремление отразить возражения и преувеличенные притязания на
символизм. Рассказ об искушении в пустыне развернулся и принял совсем другой
вид; Страсти обогатились несколькими прекрасными местами. Иисус говорит о
«своей церкви», как в целом, уже сложившемся и опирающемся на первенстве Петра.
Формула крещения расширилась и включает в сжатом виде три слова таинства
теологии того времени, Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, зародыш
догмата Троицы заложен в углу священной страницы и принесет плод.
Апокалипсическая речь, приписываемая Иисусу по поводу иудейской войны в связи с
кончиной мира, скорее усилена, чем ослаблена. Скоро мы увидим Луку
употребляющим все свое искусство для смягчения неловкости смелого пророчества в
конце мира, который не наступал.
Глава XI. Тайна красоты Евангелия
Более всего чувствуется в новом Евангелии огромный литературный прогресс.
Общее впечатление, производимое им, равносильно тому, которое произвел бы
дворец фей,
построенный целиком из драгоценных камней. Неопределенное изящество
хронологических связей и переходов придают этой восхитительной компиляции
легкий склад детского рассказа. «В час тот», «в то время», «в день тот»,
«случилось, что...» и много других выражений, имеющих вид точных определений, в
действительности ничего не определяющих, заставляют рассказ витать, как сон,
между небом и землей. Благодаря неопределенности времени, евангельский рассказ
только слегка прикасается к действительности. Воздушный гений, к которому
притрагиваются, которого обнимают, но который сам не касается камней дороги,
говорит с нами и очаровывает нас. Никто не задает себе вопроса, знает ли он то,
о чем рассказывает?.. Он ни в чем не сомневается и ничего не знает. Это
очарование равносильно уверениям женщины, вызывающий в нас улыбку и подчиняющим
нас. В литературе это то же, что в живописи ребенок Корреджио или
шестнадцатилетняя Дева Рафаэля.
Язык в том же роде и вполне соответствует предмету. Ясный и детский склад еврейского
рассказа, мягкий тембр и изящные еврейские притчи с настоящим мастерством
перенесены в греческий язык, довольно точно по отношению к грамматическим
формам, но с полным разрушением древнего синтаксиса. Кстати заметим, что
Евангелие первая книга, написанная на простом греческом языке. Древний
греческий язык, действительно, изменен там, в аналитическом смысле современных
языков. Эллинист должен признать этот язык слабым и плоским; с классической
точки зрения
Евангелие не имеет ни стиля, ни плана, ни красоты; но все-таки это высший
образец народной литературы, и в некотором смысле самая древняя народная книга.
Его расчлененный язык имеет, между прочим, то преимущество, что при
переложениях сохраняется вполне его очаровательность; в подобных писаниях перевод
почти равноценен оригиналу.
Но эта наивность формы не должна вводить в заблуждение. Слово правда не
имеет для жителя Востока того же значения, как для нас. Человек Востока
рассказывает с поразительным чистосердечием и голосом очевидца о массе вещей,
которых он не был свидетелем и в которых он далеко не уверен. Фантастические
сказания о выходе из Египта, передаваемые в еврейских семьях во время
пасхального бдения, никого не обманывают, но, вместе с тем, восхищают тех, кто
их слушает. Ежегодно прославляющие мучеников семьи Али сценические
представления в Персии обогащаются новыми выдумками с целью представить
мучеников более привлекательными, а убийц более отвратительными. Все увлекаются
этими эпизодами, забывая, что они только что выдуманы. Свойство восточной агады
глубоко трогать тех, которые лучше всего знают, что она не более, как выдумка.
Агада достигла своего торжества, создав образец искусства, введший в самообман
весь мир. He будучи знакомым со свойством этого рода рассказов, доверчивый
Запад принял за правдивое свидетельство показание рассказа о вещах, которых ни
один глаз никогда не мог видеть.
Свойство литературы lоgiа и hadith постоянно разрастаться.
После смерти Магомета, число приписываемых ему слов «людьми дивана» было
бесконечно. To же самое произошло и по отношению к Иисусу. К очаровательным
апологам, действительно им произнесенным, в которых он превзошел самого Будду,
прибавили другие, составленные в том же стиле, трудноотличимые от подлинных.
Идеи того времени выразились в семи восхитительных притчах о царстве Божием, в
которых все невинные соперничества этого золотого века христианства оставили
свой след. Некоторые были недовольны тем, что в церковь вступали люди
невысокого достоинства; открытые настежь двери церквей св. Павла представлялись
для них соблазном; им хотелось установить выбор, предварительное испытание и
цензуру. Тамаиты хотели допустить к еврейскому обучению только людей разумных,
скромных, из хороших семейств и богатых. Подобным разборчивым людям отвечали
притчей о человеке, приготовившем пир, но вследствие отсутствия приглашенных
позвавшем хромых, бродяг и нищих, — или о рыбаке, поймавшем дурную и хорошую
рыбу, а потом уже разобравшем ее. Выдающееся положение, непосредственно занятое
св. Павлом, прежним врагом Иисуса, поздно вступившим на евангельский путь,
вызывало ропот. Это дало повод притче о работниках, пришедших в последний час и
получивших одинаковое вознаграждение с работавшими весь день. Изречение Иисуса:
«многие первые будут последними и последние первыми», послужило основанием для
нее. Хозяин виноградника выходит в разные часы для найма рабочих в свой
виноградник. Он берет всех, кого находит, и пришедшие вечером последними,
работавшие только час, получили столько же, сколько и проработавшие целый день.
Борьба двух христианских поколений ясно видна здесь. Когда обращенные,
по-видимому, задумывались с грустью о том, что все места уже заняты и им
достанется только второстепенная доля, им цитировали эту прекрасную притчу,
ясно показывающую, что они напрасно завидуют преждеобращенным.
Притча о хмеле, по-своему, указывает на смешанный состав царства, где и сам
Сатана мог по временам бросить несколько зерен. Горчица, выказавшая свое
будущее величие; закваска, показавшая силу брожения; скрытое сокровище и
неоценимая
жемчужина, ради которой продают все; сеть, ее успех, смешанный с опасностью для
будущего, «первые да будут последними», «много званных, а мало избранных», —
вот правила, которые любили повторять. В особенности ожидание Иисуса вызывало
сильные и живые сравнения. Изображение вора, приходящего, когда никто об этом
не думает, молния, появляющаяся на Западе сейчас же вслед за тем, когда она
заблистала на Востоке, фиговое дерево, молодые ростки которого предсказывают
лето, занимали в то время умы. Повторяли очаровательный рассказ о разумных и
неразумных девах, — верх наивности, искусства, ума и тонкости. Те и другие ждут
жениха; но уже поздно, все засыпают. Среди ночи раздается возглас: «Вот он! вот
он!» Разумные девы, взявшие с собою масла в сосудах, быстро зажигают свои
светильники, но неразумные остаются смущенными. Для них нет мест в покое.
Мы не хотим сказать, что эти изящные отрывки не принадлежат Иисусу. Весьма
трудно в истории происхождения христианства различить в Евангелиях
принадлежащее самому Иисусу от проникнутого только его духом. Иисус ничего не
писал, составители Евангелия передали нам вперемешку подлинные его слова с
приписываемыми ему. Нет настолько тонкой критики которая могла бы точно
отделить одно от другого. Жизнь Иисуса и история составления Евангелия
проникают одна в другую настолько сильно, что даже с опасностью впасть в
противоречие приходится оставить между ними неясную границу. В
действительности, это противоречие имеет мало значения. Иисус настоящий творец
Евангелия; Иисус сделал все, даже то, что ему приписали: он и его легенда
неразрывны; он настолько воплотил себя со своей идеей, что его идея стала им
самим, поглотила его и создала его биографию такой, какой она должна была быть.
В нем было то, что теологи называют «соотношение языка». Тоже соотношение
существует между первой и предпоследней книгами евангельской истории. И если
это недостаток, то недостаток, проистекающий из природы самого предмета, и
будет ближе к правде, не слишком избегать его. Во всяком случае более всего
поражает физиономия оригинала этих рассказов. Когда бы ни были составлены
разбираемые нами книги, они настоящие цветы Галилеи, распустившиеся в первые же
дни под благоуханными следами ног божественного мечтателя.
Наставления апостолов в том виде, в каком мы их встречаем в нашем Евангелии,
по-видимому, являются результатом составленного представления об идеальном
апостоле, созданном по образцу Павла. Впечатление, произведенное жизнью
евангельского путешественника, весьма глубокое. Уже многие апостолы претерпели
мученичество за то, что несли к народам призыв Иисуса. Представляли себе
христианского проповедника появляющегося перед королями и высшими трибуналами и
провозглашающего там Иисуса. Первым правилом апостольского красноречия было
отсутствие подготовленных речей. Св. Дух должен был внушать проповеднику в
каждую минуту то, что ему следовало сказать. Во время путешествия ему не
следовало брать с собой ни провизии, ни денег, ни сумки, ни смены одежды, ни
даже какой-нибудь палки. Рабочий зарабатывает себе свою ежедневную пищу. Когда
апостольский посланник входил в дом, он мог, не стесняясь, оставаться там, есть
и пить все ему подаваемое, не считая себя обязанным платить за это чем-нибудь,
кроме слова и пожелания спастись. Это было правилом Павла, который, однако,
применял его только при сношениях с людьми, в которых он был вполне уверен, как
например с женщинами Филиппа. Как и св. Павла, апостольского
путешественника от всех опасностей пути оберегает божественное покровительство,
он смеется над змеями, яд не вредит ему. Его доля — ненависть мира, гонение..
Рассказ предания всегда преувеличивает первоначальные черты. Это как бы
неизбежное свойство мнемотехники; память лучше удерживает острые
гиперболические слова, чем обдуманные выражения. Иисус, глубокий знаток душ,
должен был знать, что суровость и требовательность лучший способ удержать их в
подчинении. Но мы не думаем, чтобы он дошел до крайности, ему приписываемой;
мрачный огонь, проникающий в наставления апостолам, представляется нам отчасти
отражением лихорадочного пыла св. Павла.
Автор Евангелия от Матфея не принадлежал к определенной партии по вопросам,
разделявшим церковь. Он не исключительный еврей, в роде Иакова, и не вполне
свободный еврей, подобно Павлу. Он считает необходимым связать церковь с Петром
и настаивает на прерогативах последнего. С другой стороны, у него проглядывает
некоторый оттенок недоброжелательности к семье Иисуса и к надменности первого
христианского поколения. В частности, он умаляет в явлениях воскресшего Иисуса
роль Иакова, считавшегося учениками Павла открытым врагом. Противоположные
тезисы имеют у него равноценные доказательства. Иногда о вере говорится так же,
как в посланиях
св. Павла. Автор берет из преданий притчи, слухи, чудеса, решения
противоположных значений, раз они поразительны, не стараясь их примирить. В
одном месте вопрос идет о проповеди Евангелия Израилю, в другом месте о
проповеди его всему миру. Хананеянка, встреченная сначала суровыми словами,
потом выслушана; история, начатая с целью показать Иисуса явившимся только для
Израиля, оканчивается возбуждением веры у язычницы. Центурион Капернаума
получает прощение и милость. Законные вожди народа более враждебны к Мессии,
нежели такие язычники, как волхвы, Пилат и жена последнего. Еврейский народ
произносит сам над собою проклятие. Он не захотел торжества царства Божия,
приготовленного для него; люди большой дороги (язычники) займут его место.
Выражение: «было сказано древним... а я говорю вам»... упорно помещается в уста
Иисуса. Круг читателей, к которому обращается автор, это круг обращенных
евреев. Полемика с необращенными евреями сильно озабочивает автора. Его
пророческие цитаты, как и многие обстоятельства, им сообщаемые, имеют в виду
нападки, которым верные должны были подвергнуться от ортодоксального
большинства; в особенности, имелось в виду главное возражение, выводимое из
того, что официальные представители нации отказались верить в мессианство
Иисуса.
Евангелие св. Матфея, как почти все тонкие комбинации, было работой
двойственного убеждения. Автор одновременно еврей и христианин. Его новая вера
не убила старой, а первая не уничтожила в нем поэзии последней. Он одновременно
любит обеих. Зритель наслаждается этой безболезненной борьбой. Очаровательное
состояние, когда, находясь в ней, не представляешь ничего определенного!
Изящные переходы, прекрасные минуты для искусства, когда совесть является
мирным полем борьбы, на котором сталкиваются противоположные партии, не
потрясая его! Несмотря на то, что предполагаемый Матфей говорит о евреях в
третьем лице, как о посторонних, его ум, его оправдательная речь, его
мессианизм, его толкования, его благочестие существенно еврейские. Для него
Иерусалим «святой город» «святое место». Полномочия, по его мнению,
принадлежность только Двенадцати; он не присоединяет к ним св. Павла и,
конечно, не допускает для последнего специального призвания, несмотря на то,
что наставления апостолам в том виде, в каком он их сообщает, заключают в себе
не одну черту, взятую из жизни проповедника язычникам. Его отвращение к евреям
не мешает ему признавать авторитетом иудаизма. Христианство у него находится в
положении распустившегося цветка, еще не сбросившего с себя оболочки бутона, из
которого он прорвался.
В этом и заключается часть его силы. Высшее искусство в деле примирения,
одновременно отрицать и утверждать, употреблять Ama tanquam osurus древних
мудрецов. Павел отбрасывает весь иудаизм и даже всю религию, дабы все заменить
Иисусом. Евангелия колеблются и остаются в гораздо более деликатной полутени.
Существует ли Закон? И да и нет. Иисус его уничтожил и выполнил. Субботу он
уничтожил и сохранил. Еврейские обычаи он исполняет и не хочет, чтобы их
соблюдали. Все религиозные реформаторы должны были придерживаться того же
правила; нельзя
снять с людей бремя, ставшее им невмоготу, не взяв его на себя без ограничений
и смягчений. Противоречие было во всем. Когда Талмуд цитирует на той же строчке
два исключающих друг друга мнения, он заканчивает следующим выражением: «И все
эти мнения слова жизни». Анекдот о хананеянке верное изображение этого момента
в христианстве. На ее мольбу Иисус отвечает: «Я послан только к погибшим овцам
дома Израиля»; тогда она подошла к нему и поклонилась: «Не хорошо взять хлеб у
детей и бросить псам». — Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи,
которые падают со стола господ их». — «О, женщина! Велика вера твоя; да будет
тебе по желанию твоему». Обращенная язычница увлекла его силою смирения,
предварительно перенеся дурной прием аристократа, желавшего, чтобы ему угождали
и его упрашивали.
Возможность подобного настроения допускала только ненависть, ненависть
фарисея, официального еврея. Фарисей или вернее, лицемер (так как это слово
приняло обидный смысл, как у нас слово «иезуит», прилагаемое ко многим людям,
не принадлежащим к обществу, основанному Лойолой) должен был представлять
главного виновника,
как противоположность во всем Иисуса. В нашем Евангелии собраны вместе в одну
речь, полную язвительности, все изречения Иисуса, произнесенные им в разное
время против фарисеев. Автор, очевидно, взял этот отрывок из какого-нибудь
ранее существовавшего сборника, не имевшего определенных рамок. Иисусу
приписываются многочисленные путешествия в Иерусалим; наказание фарисеев
переносит нас ко временам, предшествовавшим революции в Иудее.
Во всяком случае, получилось Евангелие несравненно более совершенное, чем
Евангелие Марка, но гораздо меньшего исторического значения. В
действительности, Марк остается единственным подлинным документом жизни Иисуса.
Рассказы, прибавленные псевдо-Матфеем к Марку, не более, как легенда.
Изменения, внесенные в рассказы Марка, только способ скрыть некоторые
неудобства. Внесение частей, которые автор почерпает вне Марка, произведено
грубо, плохо переварено, если можно так выразиться; вставки целиком могут быть
узнаны. В этом отношении Лука внесет очень большие усовершенствования. Ценность
Евангелию Матфея придают речи Иисуса, сохраненные с удивительной точностью и,
вероятно, в том порядке, в каком они были записаны.
Это гораздо важнее точности биографии. Евангелие Матфея, правильно
оцененное, самая важная книга христианства, книга, имеющая наибольшее значение
из всех когда-нибудь написанных. И не без причины при классификации новой
Библии ей отвели первое место. Биография великого человека — часть его труда.
Людовик Святой не играл бы такой роли в общественном сознании без Жуанвиля.
Жизнь Спинозы, написанная Колерусом, лучшее произведение Спинозы. Эпиктет всем
обязан Арриену, Сократ Платону и Ксенофонту. Таким же образом и Иисус отчасти
создан Евангелиями. В этом смысле составление Евангелий после личных действий
Иисуса главнейшая часть истории происхождения христианства; истории
человечества, прибавлю я.
Обыденное чтение мира — книга, в которой священник всегда виноват, где
порядочные люди всегда тартюфы, где все гражданские власти представляются
негодяями, где все богатые предаются проклятиям. Эта книга наиболее
революционная и наиболее
опасная из всех, католическая церковь благоразумно ее устранила, но она не
могла воспрепятствовать ей принести плоды. Недоброжелательное к духовенству,
насмехающееся над ригоризмом, снисходительное к человеку, хотя и распущенному,
но доброго сердца, Евангелие было постоянным кошмаром для лицемеров.
Евангельский человек всегда был противником педантической теологии, смеси
духовной иерархии и созданного веками церковного духа. В средние века его жгли.
И в наше время великое порицание двадцать третьей главы св. Матфея
против фарисеев, является еще жестокой сатирой на тех, кто прикрывается именем
Иисуса, но которых сам Иисус, если бы возвратился, прогнал бы бичом.
Где написано Евангелие от Матфея? Все указывает на Сирию, на кружок евреев,
говоривших только по-гречески, но имевший некоторое понятие о еврейском языке.
Автор пользуется евангелическими оригиналами, написанными по-еврейски; между
тем сомнительно, чтобы еврейские оригиналы когда-нибудь выходили из Сирии. В
пяти или шести случаях Марк сохранил маленькие арамейские фразы, произнесенные
Иисусом; предполагаемый Матфей устранил их все, кроме одной. Характер преданий,
помещенных самим нашим евангелистом, существенно галилейский. Согласно ему, все
явления воскресшего Иисуса происходили в Галилее. Его первыми читателями,
по-видимому, были сирийцы. У него нет, как у Марка, ни объяснений обычаев, ни
топографических заметок. Наоборот, у него есть места, которые, не имея смысла в
Риме, представляли интерес на Востоке. Таким образом, можно предполагать, что
Евангелие от Матфея было составлено тогда, когда Евангелие от Марка,
составленное в Риме, достигло Востока. Появилось греческое Евангелие —
драгоценная вещь; но люди были поражены пробелами произведения Марка; и его
пополнили. Прошло не мало времени прежде, чем получившееся таким образом новое
Евангелие достигло обратно Рима. Тем и объясняется, что Лука не встречал его в
Риме в 95 году.
Тем же объясняется также и то, что для возвышения значения нового Евангелия,
в противовес имени Марка, ему дали более авторитетное имя Матфея. Матфей
апостол, иудео-христианин, вел аскетический образ жизни, подобно Иакову,
воздерживаясь от мяса, питаясь только овощами и молодыми побегами деревьев.
Может быть, его прежнее звание мытаря давало повод думать, что он, имея
привычку писать, скорее, чем кто другой, подумал записать события, которых был
свидетелем. Конечно, Матфей не был составителем Евангелия, носящего его имя.
Апостол умер задолго перед тем,
как Евангелие было составлено, и кроме того, само произведение не допускает,
чтобы автором его был апостол. Разбираемая нами книга менее всего похожа на
произведение очевидца. Если бы наше Евангелие принадлежало перу апостола, то
неужели у него была такая плохая основа для общественной жизни Иисуса? Может
быть, еврейское Евангелие, при помощи которого автор пополнил Евангелие Марка,
носило имя Матфея. Может быть, сборник logiа носил его имя. Так как
новое Евангелие получило свой особый характер от вставленных logiа,
которые, может быть, в доказательство их правдивости, носили имя апостола, и
составители решили сохранить то же имя для обозначения автора Евангелия,
приобретшего свое значение, благодаря этим дополнениям. Все это сомнительно.
Папий верит, что это, действительно, труд Матфея; но через пятьдесят или
шестьдесят лет у него не могло быть достаточно средств разобраться в таком
сложном вопросе.
Во всяком случае достоверно, что приписываемое Матфею произведение не
пользовалось тем авторитетом, который могло придать ему его имя и не считалось
окончательным. Выло сделано еще много подобных же попыток, но не дошедших до
нас, самое имя апостола не было достаточной рекомендацией для этого
произведения. Мы скоро увидим Луку, который не был апостолом, предпринимающим
попытку составить Евангелие, резюмирующее все остальные и делающее их
излишними, и в то же время Лука не знал о существовании Евангелия от Матфея.
Глава XII. Христиане семьи Флавиев. —
Иосиф-Флавий
Неизбежный закон цезаризма начал сказываться. Законный король становится
лучше по мере
того, как стареет, цезарь начинает хорошо, а оканчивает плохо. Каждый год
ознаменовался увеличением дурных страстей Домициана. Он всегда был скверным
человеком, его неблагодарность к отцу и брату была чем-то ужасным. Однако,
первоначально он не был дурным правителем. Но мало помалу мрачная зависть ко
всему достойному, утонченное вероломство и низкая хитрость, заключавшиеся в его
натуре, прорвались наружу. Тиберий был страшно жесток, но по некоторого рода
философскому озлоблению против человечества, имевшему своеобразное величие, и
которое не помешало ему быть, во многих отношениях, самым развитым человеком
своего времени. Калигула, мрачный шут, одновременно смешной и ужасный, но
забавный и малоопасный для тех, кто не приближался к нему. В правление Нерона,
воплощенной сатанинской иронии, некоторого рода вид оцепенения держал мир в
ожидании; ясно сознавали, что присутствуют при окончательной борьбе добра и
зла. После его смерти все вздохнули свободно; зло представлялось скованным,
распущенность мира смягченной. Какой же ужас должен был охватить всех честных
людей при виде возродившегося зверя, когда поняли, что самоотвержение всех
хороших людей империи предало мир в руки властителя, заслуживающего больших
проклятий, чем те чудовища, которых считали отошедшими в прошлое.
Домициан, вероятно, наиболее злой человек из всех существовавших. Коммод
более отвратителен, так как он сын прекрасного отца; но он не более, как
простое животное; Домициан же человек вполне разумный, сознательно злой. Для него
не могло быть оправданием сумасшествие; он имел вполне здоровый, холодный и
ясный ум. Он был человек
политически серьезный и логический. У него не было воображения, и хотя одно
время он упражнялся в литературе и писал недурные стихи, он делал это только с
целью показать, что не интересуется делами; но скоро он бросил литературу и
перестал думать о ней. Он не любил искусства, был равнодушен к музыке и при
своем меланхолическом темпераменте чувствовал себя хорошо только в уединении.
Целыми часами видели его гуляющим в одиночку; и тогда ожидали проявления
какого-нибудь из его злых умыслов. Жестокий без фраз, он почти всегда улыбался
перед убийством. Чувствовалось проявление низкого происхождения. Цезари из дома
Августа, расточительные и жаждущие славы, были скверны, часто абсурдны, но
очень редко вульгарны. Домициан — буржуа в преступлении; он извлекал из него
выгоду. Небогатый, он стремился всяким способом добывать деньги и поднял налоги
до последних пределов. Его зловещее лицо никогда не смеялось сумасшедшим смехом
Калигулы. Нерон, тиран-литератор, постоянно желавший вызвать к себе любовь и
восторг всего мира, понимал шутки и вызывал их; Домициан не поддавался
насмешкам, он был слишком трагичен. Его нравы были не лучше нравов сына
Агриппины; но к низости он присоединял угрюмый эгоизм, лицемерную показную
строгость, вид сурового цензора (sanctissimus censor), служившие только
поводом убийству невиновных. Очень тяжело переносить тон суровой добродетели,
который принимают его льстецы, Марциал, Стаций и Квинтилиан, когда стараются
возвысить наиболее дорогой для него титул спасителя богов и исправителя нравов.
Тщеславие не господствовало над ним в такой степени, как над Нероном,
которого оно вынуждало делать столько печальных безрассудств; у Домициана
тщеславие было гораздо менее наивным. Его ложные триумфы, его памятники, полные
лживой лести, представляют из себя нечто тошнотворное и гораздо более
неприятное, чем тысяча восемьсот венков и периодические процессии Нерона.
Прежде пережитые тирании были менее обдуманы. Наступившая же теперь была
административной, осторожной и организованной. Тиран сам выполнял роль
начальника полиции и следственного судьи, Это был юридический террор.
Действовали, согласно
шутовской законности революционного трибунала. Флавий Сабин, двоюродный брат
императора, был казнен за промах глашатая, провозгласившего его императором
вместо консула; греческий историк казнен за некоторые места в описаниях,
казавшиеся неясными; а все переписчики его сочинения были распяты; один знатный
римлянин казнен за свою привычку повторять речь Тита Ливия, за имевшиеся у него
географические карты и за то, что дал двум своим рабам имена Магона и
Ганнибала; уважаемый воин Саллюстий Луцилий за разрешение назвать его именем
копья нового образца, изобретенного им. Никогда шпионство не развивалось до
таких размеров; провокаторы и шпионы проникали повсюду. Нелепая вера императора
в астрологов увеличивала опасность. Помощниками Калигулы и Нерона были низкие
люди из жителей Востока, чуждые римскому обществу, успокаивавшиеся, достигнув
богатства. Агенты же Домициана — род Фукье Тенвиля, с зловещими и бледными
лицами, — наносили удары наверняка. Император заранее сговаривался с
обвинителями и лжесвидетелями о том, что они должны были говорить; затем он
лично присутствовал при пытках и наслаждался бледностью окружающих лиц и,
казалось, считал вздохи, вызываемые состраданием. Нерон избегал быть свидетелем
преступлений, совершаемых по его приказанию. Этот же хотел все видеть, у него
была невероятная утонченность в жестокости. Его крайне подозрительный ум
одинаково оскорблялся, когда ему льстили и когда ему не льстили; его
недоверчивость и зависть не имели границ. Всякий уважаемый, всякий благородный
человек представлялся ему соперником. Нерон, по крайней мере, завидовал только
певцам, а не считал каждого государственного деятеля и каждого выдающегося
военного своим врагом.
Ужасная тишина господствовала в то время. Сенат в течение нескольких лет
находился в угрюмом оцепенении. Ужаснее всего было то, что не предвиделось
выхода из этого положения. Императору было всего тридцать шесть лет. Прошлые
периоды лихорадочных припадков злобы были коротки; чувствовалось, что это
только кризисы, которые не могут долго продолжаться. Теперь же не имелось
никаких оснований рассчитывать на скорый конец. Армия была довольна, народ
равнодушен. Правда, Домициан никогда не достиг популярности Нерона, и в
88 году самозванец надеялся низвергнуть его, выдав себя за обожаемого
властелина, который доставлял народу такие веселые дни. Тем не менее, не все
было потеряно. Представления давались такие же чудовищные, как и прежде. В
амфитеатре Флавиев (Колизее) даже были сделаны успехи в отвратительном
искусстве развлекать народ. Так что с этой стороны не грозило никакой
опасности. Император, между тем, читал только мемуары Тиберия. Он презирал
поощрявшуюся его отцом Веспасианом фамильярность; он называл ребячеством
доброту своего брата Тита и его иллюзию править миром при помощи доброты и тем
заслужить любовь. Он считал, что лучше всех знает требования неограниченной
власти, вынужденной постоянно обороняться и формироваться.
В происходивших ужасах сказывались политические причины, а не каприз
бешеного. Вызванный потребностями времени отвратительный образец новой власти,
подозрительной, боящейся всего и всех, приводящая в оцепенение от ужаса голова
Медузы, явилась отвратительной личиной, которой прикрыл свое лицо ученый
террорист в защиту от стыда.
Первыми жертвами его бешенства пали члены его собственной семьи. Почти все
его двоюродные братья и племянники погибли. Все, напоминавшее Тита,
уничтожалось. Эта оригинальная семья, не имевшая предрассудков, не имевшая
хладнокровия аристократов и глубокого разочарования римского высшего общества,
представляла удивительные контрасты.
Ужасные трагедии разыгралась в ней. Какова, например, судьба Юлии Сабины,
дочери Тита, переходившей от преступления к преступлению и окончившей жизнь
героинею романа подонков общества в мучениях при выкидыше! Подобная
распущенность вызывала странные противоположности. Сентиментальная и нежная
сторона натуры Тита проявлялась и у некоторых других членов этой семьи,
особенно в ветви Флавия Сабины, брата Веспасиана. Флавий Сабина, будучи долгое
время префектом Рима, мог, в особенности в 64 году, узнать христиан; этот
мягкий и гуманный человек уже заслужил упрек в низости души, погубившей
впоследствии его сына. При римской жестокости низость души была равнозначима
человечности. Многие евреи, принятые в интимный круг семьи Флавиев, могли найти
именно в этой ее части подготовленных и внимательных слушателей.
Несомненно, что христианские и иудео-христианские идеи проникли в
императорскую семью, особенно в ее боковую ветвь. Флавий Клеменс, сын Флавия
Сабины, следовательно, двоюродный брат Домициана, женился на Флавии Домицилле,
своей двоюродной племяннице, дочери другой Флавии Домициллы, дочери Веспасиана,
умершей ранее, чем отец ее стал императором. Неизвестно, каким образом,
вероятно, благодаря связи Флавиев с евреями, Клеменс и Домицилла приняли
еврейские обычаи, но, по всей вероятности, ограниченный иудаизм, отличавшийся
от христианства только значением, которое последнее приписывало Иисусу. Иудаизм
прозелитов, ограничивающийся предписанием noachiques, был тот, который
проповедовал Иосиф, клиент семьи Флавиев, установленный, как говорили, по
соглашению всех апостолов в Иерусалиме. Клеменс был увлечен этим иудаизмом.
Домицилла, может быт, пошла дальше и заслужила имя христианки. Но, однако, не
следует преувеличивать. Флавий Клеменс и Флавия Домицилла не были настоящими
членами церкви Рима. Как и многие другие знатные римляне, они сознавали пустоту
официального культа, недостаточность моральных законов, вытекающих из
идолопоклонства, и отвратительное безобразие нравов и общества того времени.
Очаровательность иудео-христианских идей подействовала на них.
Они видели в этих идеях жизнь будущего, но они не были положительными
христианами. Далее мы увидим Флавию Домициллу действующей более, как римлянка,
нежели как христианка, и не останавливающейся перед убийством тирана. Принятие
консульства Клеменсом означало согласие на жертвоприношение и церемонии вполне
языческие. Клеменс был вторым лицом в государстве. Он имел двух детей, которых
Домициан предназначал себе в наследники и которым дал имена Веспасиана и
Домициана. Воспитание детей Клеменса было поручено одному из наиболее приличных
людей, всаднику Квинтилиану, которому Клеменс выхлопотал почетные знаки
консульства.
Квинтилиан с таким же ужасом относился к еврейским идеям, с каким он относился
к идеям республиканским. Рядом с Гракхами, он помещал «автора иудейского суеверия»
среди наиболее зловредных революционеров. Кого предполагал Квинтилиан: Моисея
или Иисуса? Может быть, он и сам хорошо не знал этого. Выражение «иудейское
суеверие» в то время еще охватывало евреев и христиан. Христиане не одни в те
времена придерживались еврейского образа жизни, не употребляя обрезания. Многие
из тех, кого привлекал закон Моисея, довольствовались только соблюдением
субботы, Та же чистота жизни, то же отвращение к многобожию объединяли все эти
маленькие: группы благочестивых людей, о которых поверхностные язычники
говорили: «они ведут еврейский образ жизни». Если Клеменс и Домицилла были
христианами, то очень неопределенными христианами. Публика могла заметить мало
из того, что могло касаться обращения этих знаменитых лиц в христианство.
Окружавший их веселый мир не знал хорошенько, чем они были: христианами или
евреями. Подобные перемены сказывались только двумя путями: во-первых, плохо
скрытым отвращением к национальной религии, уклонением от всех внешних обрядов,
причем думали, что уклоняющиеся придерживаются тайного культа Бога
неосязаемого, неизреченного; во-вторых, кажущейся беспечностью, полным
пренебрежением обязанностями и почестями гражданской жизни, тесно связанными с
идолопоклонством. Стремление к уединению, к тихой спокойной жизни; отвращение к
театру, спектаклям и сценам жестокости, на каждом шагу встречавшимся в римской
жизни; братские отношения с людьми низшего ранга, не имевшими в себе ничего
военного, которых римляне презирали; удаление от общественных дел, казавшихся пустяками
в глазах тех, которые верили в скорое пришествие Христа; мечтательность и
отчужденность, — вот что римляне называли одним словом ignavia. Согласно духу
времени, каждый должен был иметь столько самолюбия, сколько допускали его
происхождение и состояние. Высокопоставленный человек, равнодушный к жизненной
борьбе, избегающий проливать кровь, мягкий и гуманный, считался ленивым,
опустившимся человеком, неспособным ни на какое дело. Нечестивец и трус служили
ему кличками, которые в тогда еще энергичном обществе должны были рано или
поздно погубить его.
Клеменс и Домицилла были не единственными, которые в царствование Домициана
склонились к христианству. Ужас и грусть потрясали души. Многие лица из римской
аристократии прислушивались к учениям, которые среди господствовавшей тьмы
указывали чистое небо идеального царства. Мир был так мрачен, так зол! Никогда
еврейская пропаганда не была так деятельна. Может быть, к этому времени надо
отнести обращение семидесятилетней римской дамы, Ветурии Паулы, принявшей имя
Сары, которая затем в течение шестнадцати лет была матерью синагог Марсова
Поля, и Волумнии.
Большая часть оживления в обширных предместьях Рима, где волновался низший
класс населения, — гораздо более многочисленный, чем аристократическое
общество, замкнутое в ограде Сервия Туллия, — происходила от детей Израиля.
Поселившись у Капенских ворот, вдоль нездорового ручья фонтана Егерии,
скапливались евреи, нищие, занимавшиеся контрабандными ремеслами, выполнявшие
роль цыган, предсказывавшие судьбу, собиравшие плату за вход в егерийский лес,
сданный им в наем. Впечатление, производимое этим странным племенем, было
сильнее, чем когда бы то ни было. «Тот, кому судьба дана отцом, соблюдающим
субботу, не довольствуется поклонением Богу неба и приравниванием мяса свиньи к
мясу человека, — он еще спешит избавиться от крайней плоти. Привыкший презирать
римский закон, он изучает и со страхом выполняет еврейский закон, написанный
Моисеем в таинственной книге. Там он научился указывать дорогу только своим
единоверцам; если его спросят, где фонтан, он туда приведет только обрезанного.
Виноват в этом его отец, признавший отдых в седьмой день и решивший в этот день
прекращать все житейские дела».
Действительно, суббота, несмотря на все неудовольствие настоящих римлян, не
походила на другие дни. Мелкий торговый люд в обыкновенные дни наполнявший
общественные
места, как будто уходил под землю. Эта неправильность более, чем их легко
узнаваемый тип, привлекала внимание и делала этих странных чужеземцев предметом
праздных разговоров.
Евреи, как и все остальные, много терпели от тяжелых времен. Жадность Домициана
побудила его увеличить все налоги и в особенности подушную подать, называвшуюся
fiscus judaicus, которой подвергались евреи. Ранее ее взимали с тех, кто
признавал себя евреем, но многие скрывали свое происхождение и
не платили ничего. Дабы
это устранить, прибегли к гнусному способу установления принадлежности к
еврейству. Светоний вспоминает, как в своей молодости он видел совершенно
голого девяностолетнего старика, представленного перед большим собранием для
определения, совершен ли над ним обряд обрезания. Эти строгости повели к тому,
что очень многие стали прибегать к операции натягивания; число recutiti
в это время было весьма значительно. С другой стороны, подобные розыски привели
римские власти к открытию, очень их удивившему: многие люди вели еврейский
образ жизни, не будучи обрезанными. Решено было обложить этих лиц, improfessi,
как их называли, той же податью, как и обрезанных. Таким образом, «еврейская
жизнь», a не обрезание, облагалась налогом. Поднявшиеся по этому поводу жалобы
тронули даже государственных людей, наименее симпатизировавших евреям и
христианам; либералы были возмущены подобными телесными освидетельствованиями и
различиями между гражданами, которые государство установило по названию их
религиозных учений, и включили в свою программу уничтожение в будущем подобных
злоупотреблений.
Стеснения, введенные Домицианом, содействовали уничтожению еще
существовавшей тогда неопределенности характера христианства. Рядом со строгим
правоверием ученых Иерусалима и Явнеи существовал иудаизм аналогичных с
христианством школ, не бывших, однако, тождественным с ним. Аполлос, на лоне
церкви, служил примером евреев, искавших и испробовавших много сект, не пристав
ни к одной. Иосиф, когда писал для римлян, сводил свой иудаизм к некоторого
рода деизму, признавая, что обрезание и еврейские обряды годны только для
евреев по происхождению, а что истинным культом должен быть тот, который каждый
сам свободно себе выберет. Был ли Флавий Клеменс христианином в полном значении
этого слова?
Можно сомневаться. Ему нравилась «еврейская жизнь», он придерживался еврейских
нравов: только это и поражало современников. Они не разбирались дальше, да и
сам Клеменс навряд ли знал, к какой категории евреев он принадлежал. Все стало
выясняться, когда вмешался государственный налог. Обрезание получило
смертельный удар. Жадность Домициана распространила налог на евреев, fiscus
judaicus, даже на тех, которые, не будучи евреями по происхождению и не будучи
обрезаны, придерживались только еврейских нравов. Тогда определились разные
категории евреев: чистых евреев, определяемых телесным освидетельствованием, и
почти евреев, improfessus, бравших от иудаизма только его чистую
нравственность и очищенный культ.
Наказания, установленные специальным законом за обрезание не-евреев,
содействовали тем же результатам. Неизвестно точное время издания этого закона,
но, очевидно, он принадлежит эпохе Флавиев. Всякий римский гражданин, принявший
обрезание, наказывался вечной ссылкой и потерей всего своего состояния.
Господин подвергался такому же наказанию, если позволял своим рабам принять
обрезание; доктор-оператор наказывался смертью. Еврей, совершивший обрезание
над своими рабами не-евреями, также подвергался смертной казни. Это вполне
согласовалось с римской политикой, относившейся к чужим религиям терпимо, пока
они не выходили из своей национальности, и строго, когда начиналась пропаганда
вне своей среды. Можно понять, насколько эти меры имели решительное влияние в
борьбе обрезанных евреев с необрезанными или improfessi. Только эта
последние могли свободно заниматься прозелитизмом. По законам империи,
обрезание не должно было выходить за узкие пределы семьи Израиля.
К тому времени Агриппа II, и, вероятно, Вереника уже умерли, что было
огромной потерей для еврейской колонии, которую эти высокопоставленные лица
поддерживали своим влиянием у Флавиев. Что касается Иосифа, то он, среди этой
пылкой борьбы, удвоил свою деятельность. Он обладал той поверхностной восприимчивостью,
которая дает возможность еврею, перенесенному в чуждую ему цивилизацию, с
удивительной точностью ознакомиться с ходом идей в той среде, в которую
забросила его судьба, и понять, каким образом он может лучше этим
воспользоваться. Домициан покровительствовал ему, но, по всей вероятности,
относился равнодушно к его писаниям. Императрица Домиция осыпала его милостями.
Кроме того он был клиентом некоего Епафродита, важного лица, который
предполагается тождественным Епафродиту Нерона, взятому Домицианом к себе на
службу. Епафродит был человек любознательный, либеральный, поощрявший изучение
истории и интересовавшийся иудаизмом. Не зная по-еврейски и плохо понимая
греческое изложение Библии, он заказал Иосифу написать историю еврейского
народа. Иосиф с горячностью ухватился за эту идею. Она соответствовала его
литературному честолюбию и его либеральному иудаизму. Лица, проникнутые
красотами греческой и римской истории, ставили евреям в укор, что они не имеют
истории, что греки не интересовались их существованием, что известные авторы не
упоминали их имени, что они никогда не имели сношений с благородными народами,
и что в их прошлом не было героев, подобных Сцеволе. Доказать, что еврейский
народ тоже имел высокую древность, что у него были воспоминания о героях,
равных греческим героям, что в течение веков он вел равноправные прекрасные
сношения с народами и что о нем говорили многие греческие ученые, — вот цель,
которую поставил и выполнил протеже Епафродита в своем труде, разделенном на
двадцать книг и озаглавленном Иудейская археология. Библия, конечно, послужила
основанием; Иосиф сделал к ней дополнения, не имеющие цены для античных времен,
так как он не имел других документов, помимо тех, которые имеются и у нас. Но
для более современных периодов его дополнения имеют очень важное значение,
заполняя пробел в последовательности священной истории.
К этому любопытному произведению Иосиф прибавил, в виде приложения,
автобиографию или скорее апологию своего собственного поведения. Его старые
галилейские враги, правильно или нет, называвшие его изменником, были еще живы
и не давали ему покоя. Юст Тивериадский, описывая историю гибели своего
отечества, обвинял Иосифа во лжи, изображал его поведение в Галилее в самом
непривлекательном виде. Нужно отдать справедливость Иосифу: он не сделал ни
одной попытки погубить этого опасного соперника, что для него было весьма
легко, благодаря покровительству, которым он пользовался в высших сферах. Иосиф
слабо защищается от обвинений Бюста, ссылаясь на официальные одобрения Тита и
Гриппы. Очень жаль, что история еврейской войны, написанная Юстом с точки
зрения революционера, потеряна для нас. По-видимому, свидетели катастрофы
чувствовали потребность описывать ее. Так Антоний Юлиан, один из помощников
Тита, написал рассказ, послуживший основанием для Тацита, но также не дошедший
до нас.
Плодовитость Иосифа была неистощима. Многие высказывали сомнение по поводу
написанного им в Археологии и возражали, что если еврейский народ настолько
древний, каким он его изображает, то греческие историки непременно говорили бы
о нем; на эти возражения Иосиф ответил оправдательной запиской, которую можно
считать первым памятником апологетической литературы еврейства и христианства.
Еще около половины второго века до Рождества Христова, Аристобун, еврей
перипатетик, утверждал, что поэты и философы Греции были знакомы с еврейскими
писаниями и заимствовали из них те места своих сочинений, которые носят
характер монотеизма. Для доказательства он, не стесняясь, выдумывал цитаты из
Гомера, Гесиода и Лина, которые, по его утверждению, они заимствовали из
Писания. Иосиф взялся за дело с большей добросовестностью, но с таким же
отсутствием критики. Надо было опровергнуть таких ученых, как Лисимах
Александрийский и Аполлоний Молон (около ста лет до Рождества Христова),
отозвавшихся неблагоприятно о евреях. Следовало разрушить авторитет ученого
египтянина Апиона, который, за пятьдесят лет до того, в своей истории Египта
или в отдельном сочинении, развернул громадную эрудицию, оспаривая древность
еврейской религии. В глазах египтянина или грека это было равносильно отнятию у
нее всякого права на благородство. Апион имел в Риме связи с императорским
домом; Тиберий называл его «цимбалами мира»; Плиний же находил, что более
подходящим было бы назвать его там-там. Его книга могла еще читаться при
Флавиях.
Ученость Апиона — высокомерного педанта — была легковесна, но ученость,
которую ему противоставлял Иосиф, стоила не больше. Греческая ученость была для
него новостью, так как первоначальное образование он получил чисто еврейское и
специально предназначенное к познанию Закона. Его книга не была и не могла быть
ничем иным, как защитительной речью без критики: на каждой странице чувствуется
предвзятость адвоката, пользующегося всем попадающимся под руку. Иосиф не
подделывает текстов, но он берет отовсюду; ложные историки, подкрашенные
классики еврейской школы в Александрии, не имеющие значения документы,
сваленные в книгу «о евреях», циркулировавшие под именем Александра
Полигистора, — все с жадностью принималось Иосифом; подозрительная литература
Еполема, Клеодема, так называемых Геката Абдерского, Димитрия Фалерского и
проч., благодаря Иосифу вступила в науку и серьезно потрясла ее. Апологеты и
христианские историки Юстин, Климент Александрийский, Евсевий, Моисей Коренский
последовали за ним по этому плохому пути. Публика, для которой писал Иосиф,
была весьма поверхностной в научном отношении; ее нетрудно было удовлетворить;
рациональная культура времен Цезаря исчезла; развитость человеческого ума
быстро понижалась, и он легко делался добычей шарлатанизма.
Такова была литература образованных и либеральных евреев, окружавших главных
представителей династии, либеральной по самому своему происхождению, но в ту
минуту пожиравшуюся бешеным. Иосиф без конца составлял проекты литературных
трудов. Ему в это время было пятьдесят шесть лет. При своем искусственном стиле,
испещренном разнообразными лоскутьями, он серьезно считал себя великим
писателем; воображал, что знает греческий язык, владел им только для
заимствования. Он хотел сократить свою «Войну в Иудее» и сделать из нее
продолжение своей «Археологии», хотел рассказать все произошедшее с евреями
после окончания войны до данного момента. В особенности он мечтал составить в
четырех томах философский труд о Боге и его сущности, согласно еврейским
взглядам, о Моисеевых законах, о целью дать понятие о запретах, предписываемых
этими законами и так удивлявших язычников. Несомненно, смерть помешала ему
выполнить эти новые проекты. Вероятно, если бы он написал проектированные им
сочинения, то они сохранились бы до нашего времени, как и прежде им написанные;
странная литературная судьба постигла Иосифа. Он остался вполне неизвестен
еврейской талмудической традиции, но он был принят христианами, как свой, почти
как священный писатель. Его писания пополняли священную историю, которая, если
следовать только библейскому тексту, ничего не говорит о нескольких веках. Его
писания могли служить некоторого рода комментариями для Евангелий, исторический
ход которых был бы непонятен без данных, сообщаемых еврейским историком об
эпохе Иродов. В особенности, они благоприятствовали одной из любимых теорий
христиан и давали основание для христианской апологии своим рассказом об осаде
Иерусалима.
Действительно, предсказания Иисуса о разрушении города, не покорившегося его
призыву, были одной из идей, которых наиболее придерживались христиане. Что же
могло служить большим подтверждением буквального исполнения пророчества, как не
рассказ еврея об отвратительных зверствах, сопровождавших разрушение храма?
Таким образом, Иосиф сделался основным свидетелем и дополнением к Библии. Его
усердно читали и переписывали христиане. Было сделано, если смею так выразиться,
христианское издание, в котором себе позволили сделать изменения мест, не
нравившихся переписчикам. Особенно три места вызывают сомнения, еще не совсем
рассеянные критикой: это места, относящиеся к Иоанну Крестителю, Иисусу и
Иакову. Возможно, что эти места, особенно относящиеся к Иисусу, вставки,
сделанные христианами в книге, до известной степени ими присвоенной. Однако, мы
предпочитаем считать, что в вышеупомянутых параграфах действительно говорилось
об Иоанне Крестителе, Иисусе и Иакове, a работа христианского редактора
ограничилась только исключением тех или других слов из фраз, говоривших об
Иисусе, и в изменении выражений, соблазнительных для христианского читателя.
Что касается ограниченного кружка аристократических прозелитов с ничтожным
литературным вкусом, для которого Иосиф написал свою книгу, он, вероятно, был
удовлетворен, трудности старого текста были искусно скрыты. Еврейская история
приняла ход греческой истории, перемешанной с увещаниями, составленными по
правилам светской риторики. Благодаря шарлатанской выставке эрудиции, подбору
сомнительных и слегка подделанных цитат, имелся ответ на все возражения.
Сдержанный рационализм набрасывал вуаль на все слишком наивно-чудесное древних
еврейских книг, так что, прочтя рассказ о величайших чудесах, могли свободно
думать о них, что угодно. Только бы признали историческое благородство его
племени, и Иосиф будет удовлетворен. На каждой странице мягкая философия,
симпатизирующая всякой добродетели, признающая ритуальные предписания Закона
обязательными только для одних евреев и громко провозглашающая право каждого
праведного человека стать сыном Авраама. Простой метафизический и рациональный
деизм, чисто природная мораль заменяют мрачную теологию Иеговы. Библия,
представленная, таким образом, более гуманной, стала более приемлемой. Он
ошибался; его книга, ценная для ученого, в глазах людей со вкусом была не выше
вялых Библий XVII века, в которых самые ужасные древние тексты
переводились академическим языком и украшенные виньетками в стиле рококо.
Глава XIII. Eвангелие от Луки
Как мы не раз указывали, евангельские писания в эпоху, о которой мы говорим,
были многочисленны. Большинство этих писаний не носило апостольских имен; это
были труды вторых рук, основанные на устных преданиях; они не претендовали на
полноту. Единственно Евангелие от Матфея представляется как бы пользующимся
привилегией происхождения от апостола; но это Евангелие не было сильно
распространено; написанное для евреев в Сирии, оно по-видимому, еще не проникло
в Рим. При подобном положении дел, одно из наиболее выдающихся лиц церкви Рима,
в свою очередь, предприняло составление текста Евангелия, посредством
комбинирования предыдущих текстов, сохраняя, однако, при этом за собой право,
подобно предшественникам, вносить дополнения, согласно устным преданиям и своим
собственным взглядам. Этим лицом был некто иной, как Лука или Лукан, ученик Павла,
присоединившийся к нему, как мы видели, в Македонии, сопровождавший его во всех
путешествиях, разделивший с ним плен и игравший большую роль в его
корреспонденции. Весьма вероятно, что после смерти Павла Лука остался в Риме, и
так как он мог быть очень молодым, когда познакомился с Павлом (около
52 года), то ко времени, о котором мы говорим, он был не старше
шестидесяти лет. В подобных вопросах ничего нельзя утверждать с точностью; но,
однако, не имеется никаких серьезных возражений против того, что Лука сам
написал приписываемое ему Евангелие. Лука не имел той популярности, которая
побудила бы воспользоваться его именем для придания авторитета книге, как
пользовались именами Матфея и Иоанна, а впоследствии Иакова, Петра и других.
Время, когда было написано Евангелие от Луки, может быть установлено с
достаточной достоверностью. Все признают, что оно написано позже 70-го года; но
вместе с тем оно не могло быть написано много позже этого года. Иначе
предсказания о близком пришествии Христа в облаках, которые автор третьего
Евангелия, не
колеблясь, выписал из более древних документов, не имели бы смысла. Автор
относил возвращение Иисуса к неопределенному будущему; «конец» отодвинут
возможно дальше; но связь между гибелью Иудеи и потрясением мира сохранена. Автор
передает также утверждение Иисуса, согласно которому слушавшее его поколение не
пройдет, пока не исполнится предсказание о конце времен.
Несмотря на крайнюю широту, допускаемую апостольским толкованием речей
Господних, нельзя допустить, чтобы интеллигентный составитель третьего
Евангелия, умевший вносить изменения в слова Иисуса, согласно требованиям
времени, вписал бы в свой текст фразу, заключавшую в себе решительное
возражение против дара пророчества Учителя.
Конечно, мы только по предположению связываем Луку и его Евангелие с
христианским обществом времен Флавия в Риме. Во всяком случае, можно
сказать, что общий
характер произведения Луки соответствует подобному предположению. Лука, как мы
уже заметили, имел римский ум, он любил порядок и иерархию, он питал большое
уважение к центурионам, римским властям и представил их благосклонными к
христианству. Ловким маневром ему удается избавиться от необходимости упомянуть
о том, что Иисуса оскорбляли и распяли римляне. Между ним и Климентом Римским
заметное сходство. Климент часто цитирует слова Иисуса из Евангелия Луки или из
предания, аналогичного этому Евангелию. Стиль Луки, его латинские выражения,
его общие обороты и его гебраизм напоминают Pasteur Гермаса. Само имя Лукан
римское и, может быть, связано клиентством или освобождением из рабства с
каким-нибудь Аннеем Луканом, родственником знаменитого поэта; это прибавит еще
одну связь с семьей Аннея, которую встречают повсюду, когда разбираются в
древней пыли христианского Рима. Главы XV и ХVІ Деяний Апостолов дают повод
думать, что автор имел сношения, как Иосиф, с Агриппой, Вереникой и маленькой
еврейской партией в Риме. Даже злодейства Ирода Антипы он старается смягчить и
стремится представить его роль в евангельской истории благосклонной в некоторых
отношениях. Нельзя ли усмотреть римский обычай и в посвящении Феофилу, которое
напоминает посвящение Иосифа Епафродиту и, по-видимому, совершенно не
соответствовало сирийским и палестинским обычаям I-го столетия нашей эры?
Вместе с тем, можно видеть, насколько это напоминает положение Иосифа. Лука и
Иосиф писали почти одновременно, рассказывая один происхождение христианства,
другой еврейское восстание, одушевленные аналогичными чувствами, умеренностью,
антипатией к крайним партиям, официальным тоном, большей заботой о защите
положения, чем о правде, уважением к римской власти, смешанным со страхом, даже
суровость которой они стараются представить извинительной необходимостью,
указывая, вместе с тем, что во многих случаях эта власть являлась их
защитницей. Это дает нам повод думать, что среда, в которой жил Лука, и та, в
которой жил Иосиф, были близки одна от другой и имели между собою постоянное
соприкосновение.
Упомянутый Феофил, однако, неизвестен; возможно, что это имя только фикция
или псевдоним, для обозначения одного из могущественных адептов римской церкви,
может быть Клеменса. Маленькое предисловие точно устанавливает намерения и
положения автора:
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между
нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и
служителями Слова, — то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое
основание того учения, в котором был наставлен».
Из этого предисловия не вытекает непосредственно, что Лука пользовался
«многими» повествованиями, о существовании которых он говорит. Но чтение его
книги устраняет в этом отношении всякое сомнение. Многие места у Луки буквально
совпадают с Марком, а вследствие этого с Матфеем. Лука, несомненно, пользовался
текстом Марка, мало отличавшемся от дошедшего до нас. Он, можно сказать,
включил его почти целиком в свое Евангелие, за исключением
VI, 45—VIII, 26, и рассказа о Страстях Господних, которому он
предпочел более
древнее предание. Во всем остальном буквальное совпадение, во встречающихся же
различиях легко видеть, чем, имея в виду своих читателей, руководствовался
Лука, внося поправки в имевшийся у него оригинал. В соответственных местах
находящихся во всех трех текстах (Луки, Марка и Матфея) замечается следующее:
дополнительные подробности, внесенные Матфеем в текст Марка, отсутствуют у
Луки; там, где, по-видимому, Лука прибавляет дополнительные подробности к
Матфею, они имеются у Марка. Отсутствующие же места у Марка пополнены Лукой по
другим документам, чем у Матфея. Иначе говоря, в местах, общих всем трем
текстам, Лука сходен с Матфеем, поскольку этот последний сходен с Марком. У
Луки нет нескольких мест, имеющихся у Матфея, и трудно понять, почему он их не
поместил. Речи Иисуса у Луки отрывочны, как и у Марка; было бы непонятно,
почему Лука разбил бы на части длинные речи Иисуса, помещенные у Матфея, если
бы он знал текст последнего. Правда, Марк вносит чрезвычайно много logia,
которых нет у Марка, но, очевидно, он имел их в другом расположении, чем
Матфей. Наконец, легенды о детстве и генеалогии обоих Евангелий совершенно
несходны между собою. Как мог бы допустить Лука такое очевидное противоречие?
Это дает право заключить, что Лука не знал Евангелия от Матфея; а те писания, о
которых он говорит в предисловии, могли носить имена апостольских учеников; и
ни одно из них не носит такого имени, как Матфей, так как Лука точно различает
апостолов, свидетелей, действующих лиц евангельской истории и создателей ее
традиции, от составителей, которые только на свой страх записали предания, не
имея на то никаких полномочий.
Несомненно, рядом с книгой Марка, Лука имел перед собой и другие
повествования того же рода, из которых он заимствовал немало. Большой отрывок
от IX, 51 до ХVIII, 14, например, скопирован из бывшего у него
документа, так как в этом отрывке замечается большой беспорядок; сам же Лука
излагает гораздо лучше известные ему устные предания. Высчитали, что около
третьей части текста Луки нет ни у Матфея, ни у Марка. Некоторые из Евангелий,
потерянных в настоящее время, из которых заимствовал Лука, имели очень
определенные черты: «те, на которых упала башня Силоамская» (XIII, 4), те,
«которых кровь Пилат смешал с жертвами их» (XIII, 1). Многие из этих
документов были только переделками еврейского Евангелия, сильно проникнутого
эвионизмом, и, таким образом. приближались к Матфею. Тем и объясняется
аналогичность некоторых параграфов, не имеющихся у Марка, с Матфеем.
Большинство первоначальных логий находится и у Луки, но они расположены не как
у Матфея, в виде длинных речей, а разрезанные и приспособленные к частным
случаям. Лука не только не имел нашего Евангелия от Матфея, но и не пользовался
ни одним из тех сборников речей Иисуса или большим последовательным рядом
изречений его, внесенных, как мы уже указали, в Евангелие Матфея. Если же он
имел такие сборники, то пренебрег ими. С другой стороны, Лука приближается к
еврейскому Евангелию, особенно в тех случаях, когда оно превосходит Евангелие
от Матфея. Может быть, он имел в руках греческий перевод еврейского Евангелия.
Из этого видно, что Лука занимает по отношению к Марку то же положение, как
и Матфей. И тот и другой расширили текст Марка дополнениями, заимствованными из
документов, в большей или меньшей степени получившими свое начало в еврейском
Евангелии. Многочисленные дополнения, внесенные Лукой в текст Марка и которых
нет у Матфея, очевидно, взяты Лукой, по большей части, из устного предания;
Лука погрузился в это предание и черпал оттуда то, что ему было нужно. Он считал
себя в этом отношении равноправным с многочисленными авторами очерков
евангельской истории, писавшими до него. Стеснялся ли он вставить в текст места
своего собственного изобретения, с целью придать делу Иисуса желательное
направление? Конечно, нет. Предание поступало также. Предание коллективная
работа, так как оно выражает всеобщее настроение; но, конечно, всегда
кто-нибудь первым вносит то или другое слово, тот или другой многозначительный
рассказ. Лука часто был этим кто-нибудь. Источник логий был исчерпан, и, по
правде говоря, мы думаем, что, кроме Сирии, он ниоткуда не пополнялся
значительно. Наоборот, вольность агады вполне сказалась в праве, присвоенном
себе Лукой, выкраивать их, вставлять и переносить по своему усмотрению, для
того, чтобы установить желательный порядок. Ни разу он не задумается о том, что
если рассказ верен в одном виде, то он неверен в другом. Подлинность материала
не имеет для него никакого значения; идея, догматическая цель и мораль для него
все. Прибавлю к этому: литературный эффект. Таким образом, это и побудило его
не вносить целыми ранее составленные группы логий, а даже разделять их, так как
вкус изящества подсказывал ему, что эти искусственные группировки составлены
несколько тяжеловесно. С несравненным искусством он разрезал составленные ранее
сборники, создавал рамки для разрозненных таким образом логий, вставлял и
окружал их, как маленькие бриллианты, оправой восхитительных рассказов, которые
их вызывают и дают повод к ним. Его искусство размещения никогда не было превзойдено.
Конечно, подобный способ компиляции, употреблявшийся Лукой, — как и автором
Евангелия Матфея и вообще всеми составителями по прежде написанным документам,
— ведет к повторениям, противоречиям, несвязанностям, происходящим от
противоположности документов, которые составители стараются объединить.
Единственно Марк, благодаря своему примитивному характеру, не имеет этих
недостатков, что и может служить лучшим доказательством его оригинальности.
Мы уже указывали в другом месте, в какие ошибки впадал, благодаря
удаленности места действия, римский евангелист. Его толкования основаны лишь на
Семидесяти Толковниках. Автор не еврей по рождению; и пишет он, конечно, не для
евреев; он имеет только поверхностное понятие о географии Палестины и о
еврейских нравах; он выпускает все, что неинтересно для не евреев, и прибавляет
заметки, не имеющие значения для палестинца. Генеалогия, помещенная им, дает
право думать, что он обращался к публике, которая не могла легко проверить
по библейским
текстам. Он смягчает все, указывающее на еврейское происхождение христианства,
и, несмотря на местами выражаемое им нежное сочувствие к Иерусалиму, Закон для
него не более, как воспоминание.
Таким образом, гораздо легче определить господствовавшее стремление у Луки,
нежели у Марка или у
автора приписываемого Матфею Евангелия. Два последних евангелиста держат себя
нейтрально в раздорах, которые волновали тогда церковь. Партизаны Павла и
партизаны Иакова одинаково могли признать их своими. Лука же -ученик Павла,
правда, ученик умеренный терпимый, полный уважения к Петру и даже к Иакову, но
решительный приверженец принятия в церковь язычников, самаритян, мытарей,
грешников и всевозможных еретиков. У него в тексте помещены притчи, полные
милосердия: о добром самарянине, о блудном сыне, о заблудшей овце, о потерянной
драхме, в которых положение раскаявшегося грешника представлено чуть ли не
лучшим, чем положение несогрешившего праведника. Несомненно, в этом отношении
Лука больше соответствует духу самого Иисуса; но у него замечается преднамеренность
и предвзятая мысль. Его наиболее смелый шаг в этом направлении — обращение
одного из разбойников на Голгофе. Согласно Марку и Матфею, эти два злодея
оскорбляли Иисуса. Лука же приписывает одному из них добрые чувства: мы
осуждены справедливо, а этот праведник!.. В ответ Иисус обещает разбойнику, что
он ныне же будет с ним в раю. Иисус идет дальше: он молится за своих палачей,
«которые не ведают, что творят». У Матфея Иисус, по-видимому, неблагоприятно
относится к Самарии и советует своим ученикам избегать ее городов, как
языческих мест. У Луки, наоборот, Иисус находится в частых сношениях с
самарянами и отзывается о них с похвалой. К путешествию в Самарию Лука относит
массу поучений и рассказов. В противоположность Матфею и Марку, ограничившими
деятельность Иисуса Галилеей, он руководствуется антигалилейским и
антиеврейским чувством, которое впоследствии еще более скажется в четвертом
Евангелии. Во многих других отношениях это Евангелие является, в некотором
роде, посредником между первыми двумя Евангелиями и четвертым, которое, на
первый взгляд, представляется не имеющим ни одной общей черты с первыми двумя.
Почти нет ни одного рассказа, ни одной притчи, из принадлежащих самому Луке,
которые не были бы проникнуты духом милосердия и призывом грешников.
Единственно сохранившееся несколько жесткое изречение Иисуса превратилось у
него в аполог, полный снисходительности и великодушия. Бесплодное дерево не
должно быть немедленно срублено; хороший виноградарь удерживает гнев своего
хозяина и предлагает унавозить землю у корней несчастного дерева прежде, чем
окончательно осудить его. Евангелие от Луки, по преимуществу, Евангелие
прощения — прощения за веру: «на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
«Сын человеческий пришел не губить души, а спасать». Всякие погрешности служат
для него поводом, чтобы из каждого евангельского рассказа сделать рассказ о
раскаявшемся грешнике. Самаритяне, мытари, центурионы, падшие женщины, добродетельные
язычники, все, презираемые фарисейством, — его клиенты. Идея о том, что
христианство имеет прощение для всех, — принадлежит ему. Двери открыты,
обращение возможно для всех. Нет более вопроса о Законе; новая вера — культ
Иисуса — заменила его. Тут самарянин совершает благородный поступок в то время,
как священник и левит проходят равнодушно. Там мытарь выходит из храма
оправданным, благодаря своему смирению в то время, как фарисей, безупречный, но
высокомерный, выходит более виновным. Далее, грешница, воспрянувшая, благодаря
своей любви к Иисусу, получает разрешение выразить особыми знаками свою
преданность к нему. Еще далее, мытарь Закхей делается сразу сыном Авраама,
только благодаря вызванному им стремлению видеть Иисуса. Обещание легкого
прощения всегда служило главной причиной успеха религии. «Даже самый грешный
человек, — говорит Бхагавата, — если он поклонится мне и будет верить только в
меня, должен считаться хорошим человеком». Лука к этому прибавляет смирение,
«ибо, что высоко у людей, то мерзость перед Богом». «Могущественный будет
низвергнут, а смиренный превознесен: вот для него сущность произведенной
Иисусом революции. Высокомерный, это еврей, гордящийся своим происхождением от
Авраама; смиренный, это язычник, не получивший славы от своих предков и всем
обязанный только своей вере в Иисуса.
У Луки видно полное согласие в идеях с Павлом. Конечно, Павел не имел
Евангелия в том смысле слова, как мы его понимаем. Павел не слышал Иисуса,
преднамеренно был очень сдержан с непосредственными учениками Иисуса. Он их
мало видел и провел только несколько дней в центре преданий, в Иерусалиме. Он
слышал мало логий; a из евангельских преданий знал только отрывки. Надо
заметить, однако, эти отрывки хорошо совпадают с тем, что имеется у Луки.
Рассказ о тайной вечере,
как его передает Павел, за исключением мелких деталей, вполне сходен с
рассказом, помещенным в третьем Евангелии. Лука, конечно, избегал всего, что
могло обидеть иудео-христианскую партию и вызвать споры, которые он хотел
успокоить; он почтителен, насколько возможно, к апостолам, хотя и опасается,
чтобы им не отвели слишком исключительного положения. В этом отношении
политический расчет внушает ему весьма смелую идею. Рядом с Двенадцатью, он
создает своим собственным авторитетом еще семьдесят учеников, которым Иисус
дает те полномочия, которые в других Евангелиях предоставляются только одним
Двенадцати.
Это подражание Книге Числ, где Бог, желая облегчить Моисея от бремени,
ставшим слишком тяжким для него, передает семидесяти старейшинам часть права
управления, ранее всецело принадлежавшего одному Моисею. Чтобы сделать более
чувствительным это разделение и сходство власти, Лука распределяет между
Двенадцатью и семьюдесятью наставления апостолам, из которых собрания логий
сделали одну речь, обращенную к Двенадцати. Цифра семьдесят или семьдесят два
имела к тому же преимущество соответствовать числу наций на земле, как число
Двенадцать соответствовало числу колен Израиля. Существовало мнение, что Бог
разделил землю между семьюдесятью двумя нациями и во главе каждой из них
находится ангел. Эта цифра была мистической; кроме семидесяти старейшин Моисея
имелись семьдесят
один член синедриона, семьдесят или семьдесят два переводчика Библии. Таким
образом, выясняется тайная мысль, внушившая Луке сделать такую важную вставку в
евангельский текст. Требовалось спасти законность посланничества Павла,
представить его апостольство равным апостольству Двенадцати, показать
возможность быть апостолом, не принадлежа к Двенадцати; это именно и был тезис
Павла. Семьдесят прогоняли бесов, имели ту же сверхъестественную власть, как и
апостолы. Одним словом, Двенадцатью не заканчивалось апостольство, полнота их
власти не показывала, что ничего не осталось для других... «и к тому же, —
спешит прибавить благоразумный ученик Павла, — сама по себе эта власть не имеет
значения, важно иметь, как и всякому верующему, свое имя записанным на Небе».
Вера все, а вера дар Божий, который он дает тому, кому пожелает.
При подобном взгляде привилегии детей Авраама становятся весьма незначительными.
Иисус, отвергнутый своими, нашел себе настоящую семью среди язычников. Люди
отдаленных стран (язычники Павла) признали его своим царем, в то время, как его
соотечественники, природным владыкой которых он был, не захотели его. Горе им!
Когда законный царь возвратится, он предаст их смерти в своем присутствии.
Евреи воображают, что так как Иисус пил и ел среди них и поучал на их улицах,
то они всегда будут обладать своими привилегиями; заблуждение! Люди Севера и
Юга займут место за столом Авраама, Исаака и Иакова, а они будут горевать у
дверей. Свежее впечатление несчастий, пережитых еврейским народом, проявляется
на каждой странице, и, по мнению автора, еврейский народ заслужил их, не поняв
Иисуса и посланничества, с которым он пришел в Иерусалим. В генеалогии Лука не
устанавливает происхождения Иисуса от иудейских царей. От Давида до Салафиила
линия идет по боковой ветви.
Некоторые более скрытые признаки указывают на благоприятные для Павла
намерения автора. Конечно, не случайно после рассказа о том, что Петр первым
признал Иисуса Мессией, автор не помещает знаменитого изречения: «Ты Петр, и на
сем камне я создам церковь мою», — слова, уже заключавшиеся в предании. Место о
хананеянке, которое автор, конечно, прочел у Марка, выпущено, вероятно, вследствие
суровых слов, в нем заключающихся и недостаточно искупаемых милосердным концом.
Притча о плевелах, придуманная против Павла, этого досадного сеятеля, идущего
вслед за уполномоченными сеятелями, превращающего их чистую жатву в смешанную,
также выпущена. Другой параграф, в котором видели оскорбление христиан,
освободившихся от Закона, перевернут и направлен против иудео-христиан.
Строгость принципов Павла о духе апостольском проведена еще дальше, чем у
Матфея, и — еще важнее — то, что было предписано небольшой группе посланников,
распространяется на всех верных. «Если кто приходит ко мне, и не возненавидит
отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой
жизни своей, тот не может быть моим учеником». «Кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть моим учеником». И ко всем этим жертвам приходилось еще
прибавить следующие слова: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то,
что должны были сделать». Между апостолом и Иисусом никакой разницы. Кто
слушает апостола, тот слушает и Иисуса; кто презирает апостола, презирает
Иисуса и презирает пославшего его.
Та же экзальтация замечается во всем, что касается нищеты. Лука ненавидит
богатство, смотрит на обыкновенную привязанность к собственности, как на зло.
Когда Иисус приходит в мир, для него нет места в гостинице; он родится среди
самых простых существ, быков и баранов. Первыми ему поклонились пастухи. Всю
свою жизнь он был бедным. Бережливость — абсурд, ибо богатый не уносит ничего с
собой; последователю Иисуса нет дела до земных благ; он должен отказаться и от
того, что имеет. Счастливый человек — это нищий; богатый всегда виноват; ад для
него обеспечен. Потому-то нищета Иисуса и была абсолютной. Царство Божие — пир
для нищих: замена классов, появление новых классов. У других евангелистов люди,
заменившие первоначально приглашенных, первые встречные, собранные на большой
дороге; у Луки это нищие, убогие, слепые, хромые, все обиженные судьбой. В этом
новом царстве будет лучше, если приобрел заранее друзей среди нищих, даже путем
несправедливости, чем если был просто добросовестно экономным. Не богатых
следует приглашать на обед, а нищих, за что вам и отплатится при воскресении
праведных, т. е. в тысячелетнее царствование. Милостыня — высшее
предписание; милостыня имеет даже силу очищать нечистые вещи; она выше Закона.
Доктрина Луки, как мы видим, чистый эвионизм, прославление нищих. Согласно
эвионитам, Сатана — царь мира, великий собственник мира; он дает богатства
своим последователям. Иисус царь будущего. Пользование благами диавольского
мира равносильно отречению от будущего мира. Сатана заклятый враг христиан и
Иисуса; общество, князья и богатые — его союзники в деле сопротивления царству
Иисуса. Демонология Луки странная и материалистическая. Его чудесное имеет в
себе нечто грубо-материалистическое, как у Марка; оно пугает. Лука не вносит
в него смягченных тонов Матфея.
Восхитительное народное чувство, тонкая и трогательная поэзия, звук ясный и
чистый серебристой души, что-то оторвавшееся от земли и толкования препятствуют
замечать его ошибки, многие недостатки логики и странные противоречия. Судья и
докучливая вдова, друг с тремя хлебами, нечестный домоправитель, блудный сын,
прощенная блудница, многие собственные комбинации Луки первоначально
представляются позитивным умам мало согласующимся со схоластическим
рассуждением и строгой моралью; но эта кажущаяся слабость, похожая на милые
слабости женской мысли, является лишь чертами правдивости и сильно напоминает
взволнованный, то замирающий, то прерывающийся тон и женственную живость речи
Иисуса, руководившуюся гораздо более чувством, нежели рассудком. Особенно в
рассказах о детстве Иисуса и в
Страстях Господних сказывается это божественное искусство. Рассказы о яслях, о
пастухах, об ангеле, сообщающем униженным великую радость; о небе, спустившемся
на землю к этим бедным людям, чтобы спеть гимн мира усердным; затем старец
Симеон, почтенное воплощение древнего Израиля, окончившего свою роль, но
считающего себя счастливым, что его время кончается, так как его они видели
славу своего народа и свет мира; и восьмидесятичетырехлетняя вдова, умирающая
успокоенной; и такие чистые, такие нежные гимны: Magnificat... Gloria in
exehist... Nunc dimittis... Benedictus Dominus Deus Israel... послужившие
основанием новой литургии; весь этот пасторальный эскиз, набросанные легкими
штрихами на фронтоне христианства — произведение Луки. Никогда не придумывали
более нежной песенки для убаюкивания горестей бедного человечества.
Склонность Луки к благоговейным рассказам побудила его создать и для Иоанна
Крестителя «детство», подобное детству Иисуса. Долголетнее бесплодие Елизаветы
и Захарии, видение священника
во время воскурения фимиама, посещение обеих матерей, гимны отца Иоанна
Крестителя являлись пропилеями перед портиком, подражанием самому портику,
воспроизводившим его главные линии. Мы не думаем отрицать, что Лука не нашел в
документах, служивших ему материалом, зародыши этих хорошеньких рассказов,
всегда служивших главными источниками для христианского искусства.
Действительно, стиль рассказов Луки о «детствах», обрывист, переполнен
гебраизмами, не то что в прологе. Кроме того, эта часть в книге Луки более
еврейская, нежели все остальное; Иоанн Креститель священнического рода: обряды
очищения и обрезания тщательно выполняются: родители Иисуса каждый год ходят на
богомолье, многие анекдоты вполне в еврейском вкусе. Замечательно, что роль
Марии, отсутствующая у Марка, постепенно растет по мере удаления от Иудеи, а
Иосиф, в свою очередь, постепенно теряет права отца. Легенда нуждается в Марии
и много говорит о ней. Нельзя же было представить обыкновенной женщиной ту,
которую Бог избрал для оплодотворения Святым Духом; она служила гарантией целых
частей евангельской истории, и с каждым днем ее ставили во все более и более
высокое положение в церкви.
Также мало исторически верны собственные рассказы третьего Евангелия о
Страстях, смерти и воскресении Иисуса. В этой части книги Лука почти совсем
покидает Марка и следует другим текстам. В результате получается еще более
легендарный, чем у Матфея, рассказ. Все преувеличено. В Гефсимании Лука
прибавляет ангела, кровавый пот и исцеление отрубленного уха. Явка на суд к
Ироду Антипе целиком его выдумка. Прекрасный эпизод с девами, имеющий целью
указать невинность толпы в смерти Иисуса и перенести всю гнусность дела на
сильных и на вождей, обращение одного из разбойников, молитва Иисуса о своих
палачах, взятая у Исаии, LIII, 12, все это преднамеренные
прибавления. Прекрасный вопль безнадежности: Elohi, elohi lamma sabacthani,
не соответствовавший создавшимся в то время идеям божественности Иисуса, Лука
заменил более спокойным возгласом: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Жизнь
воскресшего Иисуса рассказывается по плану вполне искусственному, отчасти
согласно Евангелию от евреев, по которому загробная жизнь Иисуса продолжалась
один день и закончилась вознесением, чего нет ни у Матфея, ни у Марка.
Таким образом, Евангелие от Луки является Евангелием измененным, дополненным
и далеко ушедшим по легендарному пути. Как псевдо-Матфей, Лука исправляет
Марка, предупреждая возражения, сглаживая кажущиеся или действительные
противоречия, уничтожая более или менее шокирующие черты, отбрасывая детали
вульгарные, преувеличенные или не имеющие значения. To, чего он не понимает, он
отбрасывает или искусно переворачивает. Он прибавляет трогательные и деликатные
черты. Выдумывает мало, изменяет много. Эстетические трансформации,
производимые им, поразительны. To, что он создал из Марии и Марфы, ее сестры,
поразительно; ни одно перо не набросало более очаровательных штрихов. Его
изображение «женщины, изливающей миро на ноги Иисуса», не менее восхитительно.
Эпизод с учениками, шедшими в Еммаус, наиболее тонкий и оттененный из всех
когда-нибудь существовавших на каком бы то ни было языке.
Евангелие от Луки самое литературное из всех Евангелий. Все указывает на ум
широкий, кроткий, разумный, умеренный и рассудительный в иррациональном. Его
преувеличения, его невероятности, его непоследовательности вытекают из самой
природы притчи и составляют ее очаровательность. Матфей округляет несколько угловатые
контуры Марка; Лука делает больше: он пишет и выказывает настоящее искусство
сочинения. Его книга — прекрасное последовательное повествование, одновременно
гебраическое и эллинистическое, присоединяющее волнение драмы к ясности
идиллии. Все смеется,
все плачет, все поет; повсюду слезы и гимны, это гимн нового народа, осанна
малых и униженных, введенных в царство Божие. Дух святого детства, радости и
волнения, евангельское чувство в своей примитивной самобытности придают всей
легенде окраску несравнимой мягкости. Никто не был меньшим сектантом, чем наш
автор. Ни одного упрека по адресу отверженного древнего народа; его
отверженность не есть ли уже достаточное наказание само по себе? Это
прекраснейшая книга. Удовольствие, которое испытывал автор, писав его, никогда
не будет вполне понято.
Историческое значение третьего Евангелия, конечно, меньше значения двух
первых. Однако, важное обстоятельство, хорошо подтверждающее, что синоптические
Евангелия действительно заключают в себе отклик слов Иисуса, устанавливается
при сравнении Евангелия от Луки с Деяниями Апостолов. Оба эти произведения
принадлежат перу одного и того же автора. Однако, при сравнении речей Иисуса в
Евангелии с речами апостолов в Деяниях устанавливается полное различие: в
первом случае очарование и наивное увлечение; во втором (я хочу сказать, в
речах апостолов, особенно в последних главах Деяний) некоторого рода риторика,
по временам довольно холодная. Откуда произошло это различие? Очевидно, во
втором случае Лука сам составлял речи, а в первом руководствовался преданием.
Слова Иисуса были написаны до Луки, слова апостолов не были написаны. Между
прочим, можно вывести важное заключение из рассказа о Тайной Вечере в первом
послании св. Павла к коринфянам. Это самый древний из написанных евангельских
текстов (первое послание к Коринфянам в 57 году); и этот рассказ сходен с
рассказом, помещенным у Луки. Так что Евангелие от Луки может иметь основную
ценность и помимо Марка и Матфея.
Лука представляет последнюю степень обдуманной редакции, до которой могло
достигнуть евангельское предание. После него уже нет больше апокрифических
Евангелий, составленных только путем простого увеличения многословия и
предположений a priori, без помощи новых документов. Однако, далее мы увидим,
что евангельские тексты Марка, Луки и псевдо-Матфея оказались недостаточными
для удовлетворения потребностей набожных христиан, как появилось новое
Евангелие, имевшее претензии превзойти остальные; и в особенности нам придется
выяснить, почему ни одному из евангельских текстов не удалось вытеснить другие
тексты и как христианская церковь своей добросовестностью дала повод к сильным
возражениям, вытекающим из различия Евангелий.
Глава XIV. Гонения Домициана
Чудовищность «лысого Нерона» возрастала в ужасающей прогрессии. Он дошел до
бешенства
мрачного, обдуманного. До сих пор были интервалы между ужасами; теперь начался
непрерывный припадок бешенства. Злость с примесью лихорадочного гнева,
по-видимому, продукта римского климата, страх показаться смешным, благодаря
своему военному ничтожеству и ложным триумфам, которыми он себя награждал,
наполняли его непримиримой ненавистью ко всякому честному человеку. Словно
вампир вонзился в труп умирающего человечества; была объявлена открытая война
всякой добродетели. Писать биографию великого человека считалось преступлением.
Казалось, хотели уничтожить человеческий ум и отнять у совести ее голос. Все
знаменитое трепетало; мир наполнялся убийствами и ссылками. Надо отдать
справедливость нашей несчастной породе, она прошла через это испытание не
погнувшись. Философия проявляла себя, более чем когда-либо, в борьбе с
мучениями: были героические жены, преданные мужья, постоянные зятья, верные
рабы. Семьи Трасея и Barea Soranus были всегда в первых рядах добродетельной
оппозиции. Гельвидий Приск (сын), Арулен Рустик, Юний Маврикий, Сенецион,
Помпония Гратилла, Фанния, целое общество великих и твердых душ безнадежно
сопротивлялось. Эпиктет ежедневно повторял им своим серьезным тоном: «Переноси
и воздерживайся. Страдание, ты не убедишь меня, что ты несчастие. Anytus и
Melitus могут меня убить, но не могут мне повредить.
Делает честь философии и христианству, что, как при Домициане, так и при
Нероне, их преследовали вместе. Как выражается Тертуллиан, то, что осуждали эти
чудовища, несомненно, было чем-нибудь прекрасным. Правительство достигает
предела злобы, когда не дозволяет существовать добру даже в его наиболее
уступчивой форме. С тех пор название
философ стало включать в себя аскетические привычки, особый образ жизни и плащ.
Этот род светских монахов своим отречением выражал протест против мирского
тщеславия и в течение первого века был главным врагом цезаризма. Философия,
скажем это к ее чести, не легко принимает участие в низости человеческой и в
печальных последствиях, вносимых в политический мир этой низостью. Наследники
либерального духа Греции, стоики римской эпохи мечтали о добродетельной
демократии во времена, допускавшие только тиранию. Политики, по принципу
державшиеся в рамках возможного, конечно, питали большую антипатию к подобным
взглядам. Уже Тиберий чувствовал отвращение к философам. Нерон
(в 66 г.) прогнал этих докучливых людей, присутствие которых служило
для него постоянным укором. Веспасиан (в 74 г.) поступил так же, но
по гораздо более серьезным мотивам. Его молодую династию постоянно подкапывал
республиканский дух, которого придерживались стоики, и он, только в виду
самозащиты принял меры против своих смертельных врагов.
Домициану для преследования мудрецов достаточно было кипевшей в нем злости.
Он с ранних пор чувствовал ненависть к писателям; всякая мысль подразумевала
приговор над его преступлениями, над его посредственностью. В последнее время
он не мог этого вынести. Декрет сената изгнал философов из Рима и из Италии.
Эпиктет, Дион, Златоуст и Артемидор уехали. Мужественная Сульпиция осмелилась
поднять голос в защиту изгнанных и обратилась к Домициану с пророческими
угрозами. Плиний Младший просто чудом избег казни, которой он должен был бы
подвергнуться за свои достоинства и за свою добродетель. Пьеса Октавия,
написанная в то время, выражала страшное негодование и отчаяние:
«Urbe est nostra mitior Aulis
Et Tamorum barbara tellus:
Hospitis illic caede litatur
Numen superum; civis gaudet
Roma cruore».
Неудивительно, что на евреях и христианах отразились эти ужасные неистовства.
Одно обстоятельство делало войну неизбежной: Домициан, подражая безумию
Калигулы, хотел, чтобы ему воздавали божеские почести. Дорога, ведущая в
Капитолий, была запружена стадами скота, который гнали для принесения в жертву
перед статуей Домициана; заголовок писем его канцелярии начинался словами: Dominus
et Dew noster. Нужно прочесть чудовищное предисловие, помещенное одним из
лучших умов того времени,
Квинтилианом, в начале одного из его сочинений на другой день после того, как
Домициан поручил ему воспитание усыновленных им детей, сыновей Флавия Клеменса:
«... Теперь это показало бы непонимание божественной оценки, если бы я
оказался ниже своей обязанности. Какое надо приложить старание к выработке
нравов, которые должны получить одобрение наиболее святого из цензоров! Какое
усердие я должен прилагать в занятиях, дабы не обмануть ожидания великого
властителя своим красноречием, как и всем прочим! Никто не удивляется тому, что
поэты, призвав муз в начале своей работы, повторяют свой призыв, приближаясь к
труднейшим местам своих произведений... Пусть также простят мой призыв о
помощи, обращенный ко всем богам и прежде всего в тому который более всех
других божеств оказал милости нашему делу изучения. Пусть он вдохнет в меня
гений которого требуют от меня обязанности, возложенные им на меня; пусть он
присутствует при мне беспрерывно; пусть он сделает меня тем, чем предполагал».
Вот тон, взятый человеком «благочестивым», согласно понятиям того времени.
Домициан, подобно
всем лицемерным властителям, показывал себя строгим охранителем древних
культов. Слово impietas, особенно начиная с его царствования, имело
политический смысл, являясь синонимом оскорбления величества. Религиозное
равнодушие и тирания дошли до того, что только император оказывался
единственным из богов, величие которого внушало страх. Любовь к императору
означало благочестие; подозрение в оппозиции или только равнодушие равнялось
обвинению в нечестии. В то время не думали, что слово от этого потеряло свой
религиозный смысл. Любовь к императору включала почтительное признание
священной риторики, которую ни один здравый ум не мог принять бы всерьез.
Считался революционером тот, кто не преклонялся перед этими нелепостями,
которые превратились в государственную рутину, а революционер — нечестивец. Империя
превращалась в правоверие, в официальное учение, как в Китае. Признание всего,
что желательно императору, с преданностью, несколько похожей на ту, которую
англичане выражают по отношению к своему государю и установленной церкви, вот
что называлось religio, и доставляло название pius.
При подобном употреблении слов и настроении ума, монотеизм евреев и христиан
должен был представляться высшим нечестием. Религия христиан и евреев имела
высшего Бога, поклонение которому как бы похищалось от языческого Бога.
Почитать Бога означало создавать соперника императору; почитать не тех богов,
которым покровительствовал император, являлось еще большим оскорблением.
Христиане или, вернее, благочестивые евреи считали своей обязанностью выказать
более или менее заметный знак протеста, проходя мимо храмов; во всяком случае
они не посылали воздушных поцелуев священным зданиям, проходя мимо них, как то
делали благочестивые язычники. Христианство, по своему космополитизму и
революционному принципу, было «врагом богов, императоров, законов, обычаев и
всей природы». Впоследствии лучшие императоры не умели разобраться в этом
софизме и, не сознавая и даже не желая, делались гонителями. Благодаря своему
узкому злому уму, Домициан начал гонения с педантизмом и некоторого рода сладострастием.
Римская политика в религиозном законодательстве делала основное различие
Если то или другое лицо в своей стране придерживалось своей религии, но не
занималось прозелитизмом, то в этом римские государственные люди не находили
ничего дурного. Но, если то же самое лицо придерживалось своего культа в
Италии, а особенно в Риме, дело круто изменялось; глаза истинного римлянина
неприятно
поражались видом странных обрядов, и время от времени полиция изгоняла все то,
на что римская аристократия смотрела, как на позорные вещи. К тому же
иностранные религии привлекали к себе низшую часть населения, и государству
ставилось в обязанность не допускать этого. Но всего более обращали внимание на
то, чтобы римские граждане и известные лица не покидали религии Рима ради
восточных суеверий. Это считалось государственным преступлением. Римляне
продолжали считаться основой государства. Человек не был вполне римлянином без
римской религии; и для римлянина переход в чужую религию был равносилен измене.
Так например, римский гражданин не мог быть посвящен в друидизм. Домициан,
желавший приобрести репутацию восстановителя культа латинских богов, не мог
упустить такого удобного случая удовлетворения своей страсти к наказаниям.
Нам достоверно известно, что много лиц, принявших еврейские нравы (христиан
часто включали в эту категорию), были преданы суду по обвинению в нечестии или
атеизме. Как и при Нероне, это было результатом клеветы, исходившей, может
быть, от ложных братьев. Одни были приговорены к смерти, другие сосланы или
лишены своего имущества. Были случаи вероотступничества. В 95 году Флавий
Клеменс был консулом. В последние дни его консульства, Домициан казнил его по
самому легкому подозрению, вызванному подлым предательством. Подозрения,
конечно, были политического характера, но предлог был религиозный. Клеменс,
конечно, выказывал мало усердия в исполнении языческих обрядов, которыми
облекались все гражданские дела: возможно, что он воздержался от какой-нибудь
церемонии из считавшихся наиболее важными. Этого было достаточно для обвинения
его и Флавии Домициллы в нечестии. Клеменса казнили; Флавию Домициллу сослали
на остров Пандатарий,
бывший местом изгнания Юлии, дочери Августа, Агриппины. жены Германика,
Октавии, жены Heрона. За это преступление Домициан поплатился очень дорого. В
какой бы степени Домицилла не была христианкой, она осталась римлянкой и
считала своей обязанностью отомстить за мужа и спасти детей, судьба которых
зависела от капризов сумасбродного чудовища. Из Пандатария она продолжала
поддерживать сношения со своими многочисленными рабами и отпущенниками,
оставшимися у нее в Риме и, по-видимому, весьма преданными ей. Из всех жертв
Домициана известно имя только одной: Флавия Клеменса. Злоба правительства,
очевидно, более обрушивалась на римских прозелитов, привлеченных к иудаизму или
христианству, чем на евреев и христиан восточного происхождения, поселившихся в
Риме. По-видимому, из presbiteri или episcopi церкви никто не
претерпел мученичества. Среди христиан никто не был брошен на растерзание
зверям в амфитеатре, так как почти все принадлежали к сравнительно высшему
классу общества. Рим, как и при Нероне, оказался главным местом насилия; были
также притеснения и в провинции. Некоторые из христиан не выдержали и покинули
церковь, в которой они нашли на время успокоение души, но где оставаться было
для них слишком тяжело. Другие, наоборот, сделались героями
благотворительности: тратили свое состояние на прокормление проповедников и
надевали на себя оковы, чтобы спасти тех заключенных, которых они считали более
важными для церкви, чем они сами.
Девяносто пятый год, конечно, не был таким важным годом для церкви, как
64-й; однако, он все-таки имел свое значение. Произошло как бы второе освящение
Рима. На расстоянии тридцати одного года сумасшедший и злейший из людей как бы
сговорились разрушить церковь и Иисуса, а в действительности укрепили ее и дали
повод апологетам говорить впоследствии в виде доказательства: «Все чудовища нас
ненавидят, значит, мы правы».
Вероятно, благодаря сведениям, которые Домициан собирал о иудео-христианах,
до него дошли циркулировавшие слухи о существовании потомков древнеиудейской
династии. Фантазия агадистов давала пищу подобным слухам и привлекала сильное
внимание к роду Давида, которым мало интересовались в течение веков. Эти слухи
возбудили недоверие Домициана, и он велел умертвить тех, которые были ему
указаны; вскоре обратили его внимание на то, что среди предполагаемых потомков
царского рода были люди, по своему характеру находившиеся вне всяких
подозрений: внуки Иуды, брата Иисуса, мирно жившие в уединении в Ватанее.
Подозрительный
император между прочим уже слышал о будущем триумфальном пришествии Христа: все
это беспокоило его. Еvоcatus был послан привести святых людей из Сирии;
их было двое; они были привезены к императору. Прежде всего Домициан спросил
их, правда ли, что они потомки Давида. Они ответили да. Император спросил об их
средствах существования. «У нас двоих, — ответили они, — девять тысяч динариев,
из которых каждый из нас имеет половину, и имеем мы их не в деньгах, а в
тридцати трех арпанах земли, за которую платим налоги и живем трудами рук
своих». Затем они показали свои покрытые мозолями руки, морщинистая кожа
которых указывала на привычку к работе. Домициан спросил их о Христе, о его
царстве, о его будущем пришествии, о времени и месте этого события. Они
объяснили, что царство, о котором говорится, не здешнего мира, a небесное,
ангельское; что оно откроется по окончании времен, когда Христос появится в
славе судить живых и мертвых и воздаст каждому по заслугам. Домициан
почувствовал только презрение к подобной простоте и велел освободить внучатных
племянников Иисуса. По-видимому, этот наивный идеализм вполне разубедил его в
политической опасности христианства, и он приказал прекратить преследование
мечтателей.
Некоторые указания дают повод думать, что Домициан к концу жизни ослабил
свои жестокости. Впрочем, в данном случае нельзя ничего утверждать, так как по
другим свидетельствам выходит, что положение церкви улучшилось только при
Нерве. В то время, когда Климент писал свое послание, ужас, по-видимому,
ослабел. Как на другой день после сражения считали павших, сожалели тех,
которые еще находились в цепях; но еще были далеки от мысли, что все потеряно,
просили Бога отразить злые намерения язычников и избавить свой народ от тех,
которые несправедливо их ненавидят.
Гонения Домициана обрушились одинаково и на евреев и на христиан. Дом
Флавиев переполнил чашу своих преступлений и стал для обеих ветвей Израиля
выразителем самого
отвратительного нечестия. Ничего нет невероятного в том, что Иосиф пал жертвой
последних ужасов династии, которая его обласкала. После 93 и
94 годов о нем ничего не слышно. Работы, проектированные им в
93 году, не были выполнены. В начале 93 года его жизнь уже была в опасности,
благодаря язве времени — доносчикам. Два раза он избег опасности; обвинявшие
его были наказаны; но Домициан имел отвратительную привычку возвращаться опять
к обвинениям, по которым он уже вынес оправдание, и, наказав доносчика, казнил
обвиняемого. Ужасная страсть к убийству, охватившая Домициана
в 95 и 96 годах, всего, соприкасавшегося с еврейским миром
и с его собственным семейством, делает маловероятным, чтобы он не покарал
человека, который восхвалял Тита (самое непростительное в его глазах преступление),
а его хвалил только мимоходом. Милость к Иосифу Домиции, которую он ненавидел и
решил предать смерти, тоже была достаточным к тому поводом. В 96 году
Иосифу было всего 59 лет. Если бы он жил в справедливое правление Нервы,
он продолжал бы свои писания и, вероятно, объяснил бы многие двусмысленности, к
которым страх перед тираном вынуждал его.
Будем ли мы когда-нибудь иметь памятник об этих мрачных месяцах террора,
когда все
почитатели истинного Бога думали только о мученичестве, как выражено в
рассуждении «о господстве ума», манускрипт которого носит имя Иосифа? Во всяком
случае выраженные в нем мысли принадлежали тому времени. Сильный дух,
властвующий над телом, не дает жестоким мучениям победить себя. Автор
доказывает свой тезис примером Елеазара и матери, мужественно перенесшей смерть
со своими семью сыновьями во время гонений Антиоха Епифана, о чем
рассказывается в главах VI и VІІ второй книги Маккавейской.
Несмотря на декламаторский тон и некоторые вставки, отдающие излишней
философией, эта книга заключает в себе прекрасное поучение. Бог находится в
согласии с вечным строем, проявляющимся в человеке при посредстве разума; разум
— закон жизни; долг заключается в том, чтобы предпочитать разум страстям. Как и
во второй книге Маккавейской, идея будущего вознаграждения чисто
спиритуалистическая. Праведные, умершие за истину, живут у Бога, для Бога,
лицезрея Бога — Ζωσι τω θεω. У
автора абсолютный Бог философии одновременно является и национальным Богом дома
Израиля. Еврей должен умирать за свой Закон, так как это закон его предков и
потому, что он божественный и истинный. Мясо некоторых животных запрещено
Законом, так как оно вредно человеку; во всяком случае, нарушать Закон в
мелочах одинаково преступно, как и нарушать его в крупных вещах; в обоих
случаях не признается власть разума. Отсюда видно, насколько подобный взгдяд
близок к Иосифу и к евреям-философам. Гнев, прорывающийся против тиранов на
каждой странице в изображении мучений, охватывающих ум автора, показывает, что
эта книга относится ко времени высших ужасов Домициана. Для нас нет ничего
невозможного в том, что Иосифу в последние часы его жизни служило утешением
писать эту прекрасную книгу; почти уверенный, что ему не избежать казни, он
подыскивал всевозможные доводы, по которым мудрец не должен бояться смерти.
Книга имела успех у христиан и под именем Четвертой книги Маккавейской почти
вошла в канон; она находится во многих греческих манускриптах Ветхого Завета.
Но, менее счастливая, чем книга Юдифь, она не осталась там: вторая книга
Маккавейская не допускала ее помещения рядом с собой. В особенности интересна
эта книга, как первое проявление литературы, бывшей впоследствии в большом
употреблении, литературы поучений мученикам, в которых оратор для поощрения к
перенесению страданий пользовался примерами слабых существ, ведших себя
героически, или вернее, пользовался Acta martyrum, которые превратились
в риторические произведения, имевшие целью возвеличение, действовали при помощи
ораторских преувеличений, не заботясь об исторической правде, и заимствовали
отвратительные детали и закваску мрачного сладострастия у античной пытки, как
средство для возбуждения душевного волнения.
Отклик всех этих событий сохранился в еврейских преданиях. В сентябре или
октябре месяце четыре старейшины Иудеи, рабби Гамалиил, патриарх трибунала
Явнеи, рабби Елиазар-бен-Азариа, рабби Иосия, и впоследствии знаменитый рабби
Акиба отправились в Рим. Путешествие описывается подробно: каждый вечер,
благодаря времени года, они останавливались в каком-нибудь порту; в день
праздника Кущей, раввины устроили хижину из листвы, которую на другой день
разнесло ветром; время они
проводили в спорах о способах платить десятину и заменять loulab, в
странах, где не растут пальмы. За сто двадцать миль до города, путешественники
услышали глухой шум; это шум Капитолия достигал до них. Все заплакали; один
рабби Акиба разразился смехом. « Как можно не плакать, — сказали раввины, —
видя счастливыми и спокойными идолопоклонников, приносящих жертвы ложным богам,
в то время, как святилище нашего Бога уничтожено огнем и служит логовищем
полевым зверям?» «Это-то, — сказал рабби Акиба, — и заставляет меня смеяться.
Если Бог оказывает столько милости оскорбляющим его, то какая же судьба ожидает
исполняющих его волю, которым принадлежит царство?»
Во время пребывания четырех старейшин в Риме, императорский сенат издал
декрет, чтобы более не было евреев во всем мире. Один из сенаторов, человек
благочестивый (Клеменс?), открывает Гамалиилу этот ужасный секрет. Жена
сенатора, еще более чем он благочестивая (Домицилла??), дает ему совет
покончить самоубийством при помощи яда, который он носит в кольце, и тем спасти
евреев (непонятно, каким образом). Впоследствии убедились, что этот сенатор был
обрезанный или, по фигуральному выражению, «корабль не покинул порта, не
заплатив пошлины». По другому рассказу дело происходило так: цезарь, враг
евреев, задал вопрос великим людям империи: «Если имеешь язву на ноге, то
следует ли отрезать ногу, или сохранить ее и переносить страдание?» Все были за
ампутацию, кроме Katia ben Schalom. Последний был казнен no приказанию
императора и, умирая, произнес: «Я корабль, уплативший налог; я могу пуститься
в путь».
Это смутные образы, как бы воспоминание паралитика. Передаются также
некоторые из споров, которые велись этими четырьмя учеными в Риме. «Если Бог,
спрашивали их, не одобряет идолопоклонства, то почему он не уничтожил его? — Но
тогда Богу
пришлось бы уничтожить солнце, луну и звезды. — Нет, он мог бы уничтожить
бесполезных идолов и сохранить полезных. — Но это значило бы создать божества
из необходимых предметов, которые не были бы уничтожены. Мир идет своим путем.
Украденное семя произрастает, как всякое другое. Распутная женщина не
бесплодна, несмотря на то, что ее ребенок незаконный». Проповедуя, один из
четырех путешественников высказал следующую мысль: «Бог не похож на земных
царей, которые издают эдикты и не исполняют их». Мин (иудео-христианин) услышал
эту фразу и, при выходе из залы, сказал ученому: «Однако, Бог не соблюдает
субботы, так как мир двигается и в субботу». — He дозволено ли каждому
передвигать в день субботы все, что угодно, у себя на дворе? — Да, сказал Мин.
— Ну, а мир — это Божий двор».
Глава XV. Климент Римский. —
Прогресс пресвитериата
В наиболее верных списках римских епископов, несколько насилуя смысл слова
епископ, вслед за Аненклетом стоит имя некоего Климента, которого, благодаря
сходству имен и близости времен очень часто смешивали с Флавием Клеменсом. Это
имя нередко встречается в иудео-христианском мире. По точному смыслу слова
можно предполагать существование некоторой связи клиента к патрону у нашего
Климента с Флавием Клеменсом. Но следует совершенно устранить, как фантазию
некоторых из современных критиков, считающих Климента фиктивным лицом,
двойником Флавия Клеменса, так и заблуждение, в нескольких местах вкравшееся в
церковное предание, будто епископ Климент принадлежал к семье Флавиев. Климент
Римский не только действительно существовавшее лицо, но лицо высшего порядка,
настоящий глава церкви, бывший епископом ранее, чем епископат вполне
установился, — я позволил бы себе назвать его папой, если бы это слово не
являлось здесь анахронизмом. Он пользовался высшим авторитетом в Италии, Греции
и Македонии в течение последних десяти лет первого столетия.
На границе апостольского века он был как бы апостолом, последышем великого
поколения учеников Иисуса, одной из опор церкви Рима, которая после разрушения
Иерусалима все более и более становилась центром христианского мира.
Все дает повод думать, что Климент был еврей по происхождению. Его
знакомство с Библией, стиль некоторых параграфов его Послания, способ
пользования книгами Юдифь и апокрифами, как Вознесение Моисея, не соответствует
обращенному язычнику. С другой стороны, у него мало гебраизма. По-видимому, он
родился в Риме в семье, жившей в столице в течение одного или нескольких
поколений. Его познания в космографии и в языческой истории показывают, что он
получал хорошее воспитание. Признается, хотя, может быть и без точных
доказательств, что он был в сношениях с апостолами и в особенности с Петром;
вне сомнения, что он занимал весьма высокое положение в чисто духовной иерархии
церкви своего времени и что он пользовался необычайным авторитетом. Его
одобрение равнялось закону. Все партии признавали его своим и хотели прикрыться
его авторитетом. Темный покров скрывает от нас его личные мнения; его послание
— прекрасное нейтральное произведение, которым ученики Петра и ученики Павла
могли одинаково быть довольны. Возможно, что он был одним из наиболее
энергичных работников в великом деле, долженствовавшем совершиться. Я говорю о
деле постепенного примирения Петра и Павла и о слиянии двух партий, без чего
дело Христа могло погибнуть.
Чрезвычайное значение Климента создалось, благодаря обширной апокрифической
литературе, приписываемой ему. Когда около 140 года предполагали, что
удалось объединить в один церковный свод писаний иудео-христианские традиции о
Петре и его апостольстве, то избрали Климента предполагаемым автором этой
работы. Когда задумали создать свод древних церковных обычаев и когда захотели
выдать этот сборник за «свод апостольских установлений», то опять имя Климента
послужило гарантией апокрифу. Другие писания, более или менее касающиеся
установления канонического права, также были приписаны ему. Производитель
апокрифов всегда ищет, чем бы придать вес своей работе. Во главе своей работы
он всегда ставит знаменитое имя. Одобрение Климентом, очевидно, считалось
наиболее важным во втором веке для придания значения книги. В «Пастыре»
лже-Гермаса, Климент имеет специальную обязанность посылать вновь вышедшие в Риме
книги другим церквям с предложением принять их. Приписываемая ему литература,
хотя лично он не должен нести за нее ответственности, литература авторитета, на
каждой странице вдалбливающая иерархию и послушание епископу. Каждая фраза,
приписываемая ему — закон, постановление. Ему вполне предоставляется право
обращаться к всемирной церкви. Это первый тип папы в церковной истории. Его
высокая личность, преувеличенная легендой, была после Петра самым святым
образом примитивного христианского Рима. Его почтенная фигура в последующие
века представлялась в виде законодателя серьезного и мягкого, постоянно
проповедующего подчинение и уважение. Климент пережил гонение Домициана, не
пострадав. Когда строгости утихли, церковь Рима возобновила сношения с внешним
миром. Идея о главенстве этой церкви стала уже проявляться. Ей предоставляли
право предостерегать другие церкви и улаживать их несогласия. Подобные
привилегии, по крайней мере, так думали, были предоставлены Петру среди
учеников Иисуса. А между тем все более и более тесная связь устанавливалась
между Петром и Римом. Серьезные несогласия разрывали церковь Коринфа. Эта
церковь не изменилась со времен святого Павла. Господствовал тот же дух
высокомерия, сварливости и легкомыслия. Заметно, что главной причиной сопротивления
иерархии был греческий дух, всегда подвижный, легкомысленный,
недисциплинированный и не могущий превращать толпу в положение стада! Женщины и
дети были в открытом восстании. Высокие ученые воображали, что обладают
глубоким пониманием всех великих мистических тайн, подобным глоссолалиям
распознавания умов. Почтенные такими сверхъестественными чувствами, они
презирали старейшин и хотели занять их место. В Коринфе был хороший
пресвитериат, но не мечтавший о высоком мистицизме. Фанатики хотели отбросить
его в тень и стать на его место; некоторые из старейшин были устранены. Борьба
между установленной иерархией и личным откровением началась, наполнила собой
все страницы истории церкви, привилегированные души считали вредным, что,
несмотря на преимущества, которыми они почтены, грубое духовенство, чуждое
духовной жизни, официально господствует над ними. С некоторым подобием
протестантизму восставшие Коринфа составляли как бы отдельную церковь или, по
крайней мере, совершали евхаристию в неосвященных местах. Евхаристия всегда
была подводным камнем церкви Коринфа. В этой церкви были богатые и бедные; они
плохо приспособлялись к таинству, по преимуществу таинству равенства. Наконец,
новаторы, гордые величием своей высокой добродетели, преувеличивали целомудрие
до порицания брака. Как видно, это уже была ересь индивидуального мистицизма,
отстаивающего права духа против авторитета, претендующего стать выше общины
верующих и обыкновенного духовенства, благодаря непосредственным сношениям с
божеством.
Римская церковь, спрошенная по поводу внутренних замешательств, ответила
прекрасно. Римская церковь была церковью порядка, подчинения и правил. Ее
основным принципом было: смирение, покорность выше всех блестящих дарований:
она адресовала коринфской церкви анонимное послание; одно из самых древних
преданий приписывает его Клименту. Трем наиболее уважаемым старейшинам,
Claudius Ephebus, Valerius Biton и Fortunatus доручили отвезти
письмо и дали полномочие от церкви Рима устроить примирение.
Божья церковь, находящаяся в Риме, церкви Божией, находящейся в Коринфе,
избранным посвященным волей Бога в нашего Господа Иисуса Христа, да пребудет
над вами милость и мир Всевышнего Бога через посредство Иисуса Христа.
«Несчастья и непредвиденные бедствия были причиной, братья, что мы так
поздно занялись вопросом, с которым
вы, дорогие друзья наши, обратились к нам по поводу нечестивого и ненавистного
мятежа, проклинаемого божьими избранниками, который зажгла небольшая кучка
высокомерных и дерзких людей и довела его до такого безумия, что ваше имя,
такое знаменитое, почетное и всем любезное, сильно пострадало. Кто, находясь
среди вас, не относился с уважением к вашей добродетели и вашей твердой вере?
Кто не восхищался разумностью и умеренностью вашей христианской добродетели?
Кто не восхвалял широту вашего гостеприимства? Кто не считал вас счастливыми,
благодаря совершенству и прочности вашей мудрости? Вы делали все без
лицеприятия и шли по пути законов Божьих, подчиняясь вашим вождям. Вы оказывали
должное почтение вашим старейшинам, вы поучали молодых людей честным
побуждениям и степенности; а женщин поучали руководствоваться во всем чистотой
и целомудрием, любить своих мужей, согласно своему долгу, подчиняясь им,
занимаясь ведением хозяйства со скромностью.
«Все вы были охвачены чувством смирения без хвастовства, более расположенные
подчиняться, чем подчинять себе других, более давать, чем получать. Довольные
напутствием Христа, тщательно придерживаясь его слова, вы постоянно хранили его
имя в своем сердце, а его страдания перед своими глазами. Таким образом, вы
пользовались
сладостью глубокого мира; вы обладали неотразимым желанием делать добро, и
благодать Святого Духа распространялась на всех. Полные добрых желаний,
ревности и святого доверия, вы простирали ваши руки к всемогущему Богу, прося
простить вам ваши невольные прегрешения. Вы день и ночь боролись за всю общину,
ради того, чтобы избранные Бога были спасены силой благочестия и веры... Вы
были искренни, невинны и не чувствовал обиды. Всякий мятеж, всякий раздор
наводили на вас ужас. Вы оплакивали падение ваших ближних, их грехи вы считали
своими. Добродетель и достойное поведение были вашим украшением, и вы делали
все в страхе Божием: его заповеди были записаны в ваших сердцах. Вы были в
славе и изобилии, и в вас осуществилось написанное: «любимый пил и ел; он имел
все в изобилии, он разжирел и заупрямился».
Оттуда и появились зависть и ненависть, споры и соблазны, преследование и
беспорядок, война и пленение. Таким образом, наиболее низкие поднялись против
наиболее почтенных, таким образом, справедливость и мир удалились с тех пор,
как исчез страх Божий, затемнилась вера, «когда все захотели подчиняться не
закону, управляться не правилами Иисуса Христа, а руководствоваться своими
дурными желаниями, предаваясь несправедливой и неистовой зависти, при
посредстве которой смерть проникла в мир».
Затем, указав на многие гибельные примеры зависти в Ветхом Завете, послание
прибавляет:
«Но оставим древние примеры и перейдем к атлетам, боровшимся недавно.
Возьмем известные примеры из нашего поколения. Это, благодаря зависти и
несогласиям великие и справедливые люди, бывшие столпами церкви, подвергались
преследованиям и боролись до смерти. Посмотрим на святых апостолов, например,
Петра, который, вследствие несправедливой зависти, страдал не раз, не два, а
много раз и, выполнив таким образом свое мученичество, достиг места славы,
которое он заслужил. Это благодаря зависти и несогласиям. Павел доказал, до
каких пределов может достигнуть терпение: семь раз закованный в кандалы,
изгнанный, побиваемый камнями, пробыв вестником правды на Востоке и на Западе,
он получил благородную награду за свою веру, после того, как поучал правде весь
мир и достиг крайних пределов Запада. Исполнив, таким образом, свое
мученичество перед земными властями, он был освобожден из здешнего мира и ушел
в святые места, дав нам великий пример терпения. К этим людям святой жизни была
присоединена огромная масса избранных, которые тоже вследствие зависти,
перенесли много обид и страданий, дав нам поразительный пример. Наконец, преследуемые
завистью бедные женщины, Данаиды из Дирцеи, перенеся ужасные и чудовищные
поругания, достигли цели своего святого стремления к вере и получили высокую
награду, несмотря на всю их телесную слабость».
Порядок и повиновение, вот высший закон для семьи и церкви. «Лучше вызвать
неудовольствие неразумных и безрассудных людей, нежели, гордясь и
возвеличиваясь тщетой их речей, вызвать неудовольствие Божие... Будем уважать
наших наставников, почитать старейшин, наставлять молодых людей в страхе Божием,
исправлять наших жен во имя добра; чтобы приятные нравы целомудрия проявлялись
в их поведении, чтобы они выражали простую и искреннюю мягкость, что бы их
молчание показывало, насколько они умеют управлять своим языком. Вместо того,
чтобы допускать свое сердце руководствоваться своими склонностями, пусть они
свято проявляют одинаковую дружбу ко всем боящимся Бога...
«Посмотрим на солдат, которые служат нашим государям, в каком порядке, с
какой точностью они выполняют приказания. ? они не все префекты, трибуны и
центурионы; но все исполняют приказания императора или начальников. Высшие не
могут существовать без низших, а низшие без высших. Во всем смешение различных
элементов; и только благодаря этому смешению, все идет, как нужно. Возьмем,
например, наше тело. Голова без ног — ничто; ноги без головы — ничто. Самые
маленькие из наших органов необходимы и служат всему нашему телу; все
содействует и повинуется тому же принципу подчинения для сохранения всего.
Пусть же каждый подчиняется своему ближнему, согласно положению, в которое он
помещен милостью Иисуса Христа. Пусть сильный не пренебрегает слабым, а слабый
уважает сильного; пусть богатый будет щедр к бедным, а пусть бедный благодарит
Бога, давшего ему кого-нибудь, помогающего ему в нужде. Пусть мудрый выказывает
свою мудрость не речами, а добрыми делами; пусть смиренный не свидетельствуют о
себе сам, а предоставляет об этом заботу другим. Пусть тот, кто сохраняет
чистоту тела, не гордится этим, сознавая, что он от другого получил дар
воздержания».
Служба должна производиться в предназначенных местах, в назначенные часы,
определенным священником, как в иерусалимском храме. Всякая власть, всякое
церковное правило исходят от Бога.
«Апостолы благовествовали нам от имени нашего Господа Иисуса Христа, а Иисус
Христос получил свою миссию от Бога. Христос был послан Богом, а апостолы
посланы Христом. И то и другое было сделано правильно по воле Бога. Снабженные
наставлением своего учителя, убежденные воскресением нашего Господа Иисуса
Христа, укрепленные в вере и слове Божием благодатью Святого Духа, апостолы
пошли проповедовать царство Божие. Проповедуя таким образом в странах и
городах, они избирали первенцев своего апостольства и, испытав их духом Святым,
назначали их episcopi и diaconi , тех, которые должны были уверовать.
Это не было нововведением; в Писании уже давно говорилось об episcopi и diaconi,
так в одном месте сказано: Я установлю episcopi на основании
справедливости и diaconi на основании веры... Наши апостолы,
просвещенные нашим Господом Иисусом Христом, прекрасно знали, что будет
соперничество из-за поста episcopos. Потому они в своем предвидении
посвятили в этот сан тех, о которых мы говорили, и предписали, чтобы после их
смерти другие испытанные люди заместили их. Тех, которые были поставлены
апостолами или другими прекрасными людьми, с согласия всей церкви, которые
безупречно служили стаду Иисуса Христа, со смирением, мирно, достойно, о
которых все благоприятно свидетельствовали в продолжение долгого времени, было
бы несправедливо отрешить от священства; так как мы не можем отрешить иначе,
как за крупные ошибки от епископства тех, которые достойно совершают священные
жертвоприношения. Счастливы древние, окончившие жизнь раньше нас, умершие свято
и с пользой! Они, по крайней мере, не боялись, что кто-нибудь захочет прогнать
их с назначенного им места. Мы видим, что вы отрешили тех, которые жили
священнослужительством, выполняя его безупречно и с честью...
«Разве у нас не тот же Бог, не тот же Христос, не тот же дух милости
господствует над нами, не то же ли стремление к Христу? Зачем мы разрываем
себя, зачем мы отрубаем Христовы члены? Зачем мы объявляем войну своему
собственному телу и доходим до такого безумия, что забываем о том, что мы часть
один другого?.. Ваша схизма ввела в заблуждение многих, обескуражила других,
привела в сомнение
иных, а нас всех наполнила печалью; а вы все упорствуете. Возьмите послание
блаженного апостола Павла. о чем прежде всего говорит он вам в начале своего
Благовествования? Конечно, дух правды диктовал ему то, что он сообщил вам о
Кифе, Аполлосе и о себе самом. С тех пор вы уже имели партии среди себя; но эти
партии тогда были менее виновны, нежели теперь. Ваши симпатии разделялись между
полномочными апостолами и человеком, ими одобренным. Теперь рассмотрите, кто
те, которые сбили вас с пути и повредили вашей репутации братства и милосердия,
которые доставляли вам уважение. Стыдно, мои дорогие, очень стыдно и недостойно
христианского благочестия, слышать о том, что коринфская церковь, такая твердая
и древняя, возмутилась против своих старейшин из-за одного или двух лиц. И этот
слух дошел не только до нас, но и до тех, которые мало благосклонны к нам; так
что имя нашего Господа поругано вашим неблагоразумием, и вы создаете для себя
опасность... Тот из верных, который специально предназначен для объяснения
тайной гнозы, имеет мудрость, необходимую для распознания речей, чист в своих
действиях. Пусть он будет тем скромнее, чем он выше, пусть заботится о благе
общины прежде, нежели о своем».
Лучшее, что могли сделать виновники, это выселиться.
«Если между вами есть кто-нибудь великодушный, нежный, милосердный, пусть
скажет». «Я причина соблазна, ссор и схизмы, я удаляюсь, я ухожу, куда вы
хотите, я сделаю то, что
прикажет большинство. Я молю только об одном, чтобы стадо Христово жило в мире
с установленными старейшинами». Тот, кто поступит так, приобретет великую славу
у Господа и будет горячо принят повсюду, куда захочет пойти. «Господня — земля
и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Вот что делают и будут
делать те, кто придерживается божественного указания и что никогда не дает
повода к раскаянию».
Короли, языческие вожди шли навстречу смерти во время мора для спасения
своих сограждан; другие уходили в изгнание для того, чтобы положить конец
гражданской войне. «Мы знаем, что многие среди нас давали заковывать себя в
цепи для освобождения других. Юдифь, Эсфирь вполне предались службе своему
народу. Если те, которые были причиной возмущения, признают свои ошибки, то не
нам, а Богу уступят они. Все должны с радостью встречать исправление
церкви.
«Вы, которые начали возмущение, подчинитесь старейшинам и исправьтесь в духе
покаяния, смягчите сердца ваши. Научитесь подчиняться, отказавшись от суетной и
дерзкой смелости вашего языка; так как лучше быть малым, но уважаемым в стаде
Христовом, нежели сохранить вид превосходства и потерять надежду во
Христа».
Насколько христианин обязан подчиняться своим епископам и старейшинам,
настолько же он должен подчиняться и земным властям. Во времена самых
диавольских ужасов Нерона, мы видели, как Павел и Петр заявляли, что власть
этого чудовища от Бога. В то время, когда Домициан наиболее жестоко нападал на
церковь и человечество, Климент считал его ставленником Божьим. В одной из
своих молитв, обращенной к Богу, он выражается так:
«Это ты, верховный владыка, своим неизмеримым могуществом дал нашим
государям и правящим нами на земле власть царствования для того, чтобы зная
славу и честь, возложенную тобою на них, мы подчинялись им, боясь стать в
противоречие с твоею волею. Дай им, Боже, здоровье, мир, согласие и прочность,
дабы они беспрепятственно могли выполнять дело правления, которое ты на них
возложил. Так как это ты, Небесный Владыка, царь мира, дал сынам человеческим
славу, почет и власть на всем пространстве земли. Направляй, Господи, их волю
согласно добру, как тебе желательно, дабы в мире мягко и благочестиво они
употребляли власть, тобою им врученную, и чтобы они нашли тебя благосклонным».
Вот писания церкви, памятник практической мудрости римской церкви, ее
глубокой политики и правительственного духа. Петр и Павел все более и более
примиряются; оба были правы; спор Закона и дел утих; туманное выражение «наши
апостолы», «наши столпы» прикрывают воспоминание о прежней борьбе. Хотя и
горячий поклонник Павла, автор вполне еврей. Иисус для него только «любимое
дитя Бога», «великий священник, глава христиан». Далекий от того, чтобы
разрывать с иудаизмом, он сохранял в неприкосновенности привилегию Израиля;
только новый народ, выбранный из язычников, присоединяется к Израилю. Все
античные предписания сохраняют свою силу, хотя и отклоненные от своего
первоначального смысла. В то время, как Павел сокращает, Климент сохраняет и
видоизменяет. Климент, главным образом, имеет в виду согласие, единство,
правило и порядок в церкви, такой же, как в природе и римской империи. Армия
представляется ему образцом для церкви. Каждый должен повиноваться, согласно
своему положению, вот мировой закон. Малые не могут существовать без больших;
ни большие — без малых; жизнь тела продукт совместной работы всех его органов.
Повиновение — синоним слова «долг». Неравенство людей, подчинение одних другим
— Божий Закон. История церковной иерархии — история тройного отречения:
первоначально община верных передала все свои права старейшинам или presbyteri,
затем весь пресвитериат воплотился в одном лице episcopos; затем все episcopi
латинской церкви преклонились перед одним из них, перед папой. Последний шаг
был совершен в наши дни. Создание епископата дело второго века. Поглощение
церкви presbyteri произошло до конца первого века. В послании Климента
Римского предполагается не епископат, а пресвитериат. Там нет еще следов
существования высшего presbyteros, долженствовавшего их развенчать. Но
автор открыто заявляет, что пресвитериат, духовенство предшествует народу. При
установлении церкви, апостолы, по внушению св. Духа, выбрали «епископов и
диаконов для будущих верующих». Власть, исходящая от апостолов, перешла по
правильной преемственности. Следовательно, ни одна церковь не имеет права
отрешать своих старейшин. Богатые не имеют привилегий в церкви. А те, которые
обладают мистическими дарами, должны быть наиболее покорны.
Затрагивалась великая проблема: кто существует в церкви? Народ? Духовенство?
Или вдохновленный? Этот вопрос ставился уже во времена Павла, который разрешил его
справедливым образом, взаимным милосердием. Наше послание разрешает его в духе
чистого католицизма.
Апостольский сан — все; права народа сведены к нулю. Итак, можно сказать, что
католицизм получил начало в Риме, так как римская церковь первая начертала для
него правила. Первенство не принадлежит духовным дарованиям, науке,
достоинствам; оно принадлежит иерархии, власти, передаваемой посредством
канонического посвящения, связанной с апостолами непрерывной цепью.
Чувствовали, что свободная церковь, как задумал ее Иисус, какой ее еще
признавал Павел, была анархической утопией, из которой ничего не могло выйти в
будущем. При евангельской свободе господствовал беспорядок, но не предвидели,
что при иерархии, наконец, получится единство и смерть.
С литературной точки зрения в послании Климента чувствуется нечто слабое и
мягкое. Это первый памятник того растянутого, отягченного превосходными
степенями, напоминающего проповедь стиля, которым до сих пор пишутся папские
буллы. Заметно подражание св. Павлу; автор находится под влиянием
священных писаний. Почти на каждой странице намеки на Ветхий Завет. Что же
касается до уже складывавшейся новой Библии, то ей очень озабочен Климент!
Послание к евреям, ставшее как бы наследием церкви Рима, служило ему обычным
чтением; то же можно сказать и о других больших посланиях Павла. Намеки на
евангельские тексты как бы распределяются между Матфеем, Марком и Лукой; и
можно сказать, что Климент имел почти тот же евангельский материал, как и мы,
но, несомненно, расположенный в другом порядке. Намеки на послания Иакова и
Петра сомнительны. Но что поражает, так это пользование еврейскими апокрифами.
Климент придает одинаковое значение Ветхому Завету, книге Юдифь,
апокрифическому Езекиилу, Вознесению Моисея, может быть, молитве Манассии. Как
апостол Иуда, Климент принимал в свою Библию все эти недавние произведения
еврейской страсти или фантазии, стоящие гораздо ниже древней еврейской
литературы, зато более способные нравиться в данное время своим патетическим
красноречием и горячим благочестием.
Послание Климента достигло цели, которую преследовало. Порядок восстановился
в церкви Коринфа. Высокие претензии мистических профессоров понизились. В этих
маленьких тайных сходбищах вера была настолько сильна, что предпочитали
перенести большое унижение, нежели быть вынужденным покинуть церковь.
Послание имело успех далеко
за пределами церкви Коринфа. Ни одному писанию не подражали так много. Ни одно
так часто не цитировали. Поликарп или тот, кто написал приписываемое ему
послание, автор апокрифических посланий, — Игнатий, автор произведения, ложно
называемого Вторым посланием святого Климента, заимствуют из него, как из
писания, которое знают наизусть и которым прониклись. Это послание читалось в
церкви, как вдохновленное писание. Оно заняло место среди приложения канона
Нового Завета. В одном из наиболее древних манускриптов Библии (в
Александрийском кодексе) оно было найдено помещенным вслед за книгами Нового
Завета и как одна из них.
Климент оставил по себе в Риме глубокие следы. С самых древних времен, одна
церковь освятила его память, в долине между Coelius Esquilin, где
предание поместило дом его отца, и куда, благодаря столетнему колебанию,
некоторые другие хотели перенести воспоминание о Флавии Клеменсе. Впоследствии
мы увидим, как его сделали героем романа с приключениями, очень популярного в
Риме и называвшегося «признания», так как его отец, мать и братья, смерть
которых оплакивается, нашлись и друг друга признали. К нему присоединяют некоего
Грапте, которому рядом с ним поручено управление и обучение вдов и сирот. В
полутьме, где он остается окруженный и как бы затерянный в блестящей пыли
прекрасного исторического далека, Климент — одна из великих фигур
зарождавшегося христианства. Только несколько лучей просвечивает из
таинственности, его окружающей; он подобен святой голове древней фрески Джотто,
которую можно узнать только по ее золотому ореолу и по нескольким туманным, но
чистым и мягким чертам.
Глава XVI. Конец Флавиев. — Нерва. —
Вторичное появление Апокалипсиса
Смерть Домициана последовала вслед за смертью Флавия Клеменса и гонениями на
христиан. Между этими двумя событиями была связь, которую мы не можем точно
определить. «Безнаказанно, — говорит Ювенал, — он мог лишать Рим наиболее
знаменитых лиц,
никто не подымался, чтобы отомстить ему за них; но он погиб, когда стал опасен
башмачникам. Вот что погубило человека, покрытого кровью Ламий». Представляется
вероятным только то, что Домицилла и люди Флавия Клеменса приняли участие в
заговоре. Домицилла могла быть возвращена в последние месяцы правления
Домициана из ссылки на остров Пандатарий. Тирана окружал всеобщий заговор.
Домициан чувствовал это; как все эгоисты, он был очень требователен по
отношению верности других. Он велел казнить Епафродита, помогшего Нерону
совершить самоубийство, дабы показать, как велико преступление отпущенника,
поднявшего руку на своего господина, даже с благими намерениями. Домиция, его
жена, и все его окружавшие были в страхе и решили предупредить грозившую им
опасность. К ним присоединился Стефан, отпущенник и управляющий Домициллы.
Человек очень сильный, он предложил напасть в одиночку на императора. 18
сентября Стефан, около одиннадцати часов утра, с рукой на перевязке, пришел
представить императору записку о заговоре, будто бы им открытом. Придворный Парфений,
принимавший участие в заговоре, пустил его к императору и запер дверь. Пока
Домициан внимательно читал записку, Стефан вытащил из перевязки кинжал и ударил
им Домициана в пах. Домициан успел крикнуть мальчику, смотревшему за
жертвенником лар, подать ему кинжал, лежавший под подушкой и позвать на помощь.
Мальчик подбежал к постели, но не нашел кинжала. Парфений все предвидел и
принял меры. Борьба продолжалась довольно долго. Домициан то пытался вырвать
кинжал из раны, то своими на половину отрубленными пальцами он рвал глаза
убийцы; ему даже удалось свалить его и подмять под себя. Парфений ввел тогда
других заговорщиков, которые прикончили презренного. Было пора; через минуту
вбежала стража и убила Стефана.
Солдаты, которых Домициан покрыл позором, но которым он прибавил жалования,
хотели отомстить за него и провозгласить его Divus. Сенат имел достаточно
твердости, чтобы не допустить подобного позора. Он велел разбить или расплавить
все его статуи, стереть его имя в надписях и сломать триумфальные арки. Было
решено похоронить его, как гладиатора, но его кормилица, похитив тело, тайком
присоединила его пепел к пеплу других членов семьи Флавиев в храме gens
Flavia.
Эта семья, возвышенная случайностями революции, с тех пор впала в большую
немилость. Ее заслуженные и добродетельные члены были забыты. Гордые, честные
аристократы, которые вслед затем стали царствовать, могли питать только
отвращение к остаткам буржуазной семьи, последний глава которой был предметом
вполне заслуженного отвращения. В течение всего II-го века не упоминается ни об
одном Флавии. Флавия Домицилла
окончила жизнь в неизвестности. Неизвестна также и судьба ее двух сыновей,
которых Домициан предназначал себе в наследники. Есть один признак, указывающий
на то, что потомство Домициллы продолжалось до конца III-го века. Эта семья,
по-видимому, всегда сохраняла связи с христианством. Ее семейная гробница,
расположенная на Ардеатинской дороге, сделалась одной из самых древних
христианских катакомб. Она отличается от всех остальных своими широкими
проходами, своим открывающимся на большую дорогу вестюбелем в классическом
стиле, широтой своего главного коридора, предназначенного для помещения
саркофагов, изяществом и вполне языческим характером декоративной живописи на
своде этого коридора. Если судить по передней части, то все напоминало Помпею,
или скорее виллу Ливия ad gallinas albas, па фламиниевской дороге. Ho по
мере того, как углубляетесь в подземелье, общий вид становится все более и
более христианским. Поэтому легко допустимо, что эта прекрасная гробница
получила свое первое освящение от Домициллы, которой familia должна была
быть по большей части христианской.
В III веке еще более расширили проходы и построили коллегиальную schola,
предназначенную, вероятно, для трапез или священных празднеств.
Обстоятельства, поставившие во главе империи Нерву, неясны. Несомненно,
заговорщики, убившие тирана, имели первенствующий голос в этом выборе. Реакция
против ужасов
предыдущего правления была неизбежна; но заговорщики, принимавшие близкое
участие в главных действиях прошлого правления, не хотели, чтобы реакция была
очень сильна. Нерва был прекрасный, но сдержанный и нерешительный человек,
повсюду вносивший умеренность и доводивший свою любовь к полумерам почти до
крайности. Армия требовала наказания убийц Домициана; честная партия сената
требовала наказания лиц, бывших орудиями преступления прошлого правительства;
находясь между этими двумя противоположными требованиями, Нерва часто
оказывался слишком слабым. Однажды за его столом сидели: знаменитый Юний
Маврикий, рисковавший своей жизнью ради свободы, и гнусный Вейенто, один из
наиболее вредных людей при Домициане. Зашел разговор о Катулле Мессалине, самом
отвратительном доносчике: «Что делал бы этот Катулл, если бы был жив? — сказал
Нерва. — Как, что! — ответил Маврикий, потерявший терпение, — он обедал бы с
нами».
Поскольку можно сделать добра, не разрывая со злом, Нерва сделал. Никто
искреннее его не
стремился к прогрессу; дух замечательной гуманности и мягкости проник в
управление и в законодательство. Сенат получил обратно свой авторитет. Лучшие
умы считали, что задача времени, союз принципата со свободой, окончательно
разрешена. Мания религиозного преследования, бывшая наиболее гибельной в
деятельности Домициана, совершенно исчезла; Нерва велел освободить тех, которые
были под угрозой обвинения и вызвал обратно сосланных. Было запрещено
преследовать кого бы то ни было за еврейские обычаи; суд за нечестие был
уничтожен; доносчики наказаны. Fiscsus judatcus давал, как мы видели,
повод к разным несправедливостям. Заставляли платить многих людей, не
подлежавших обложению этим налогом, и прибегали для удостоверения личности к
возмутительным способам. Были приняты меры, чтобы подобные злоупотребления не
могли повторяться, а специальная монета FISCI IYDAICI CALYMNIA SYBLATA
напоминала об этой мере.
Все семьи Израиля, таким образом, после жестокой бури пользовались
относительным спокойствием.
Вздохнули свободно. В течение нескольких лет, римская церковь пользовалась
счастьем и процветанием, более чем когда-либо до тех пор. Апокалипсические идеи
возобновились; думали, что Бог определил время своего пришествия тем моментом,
когда число верующих достигнет определенной цифры; и каждый день с радостью
замечалось увеличение числа верующих. Вера в возвращение Нерона не исчезла.
Нерон, если — бы и был жив, имел бы в это время шестьдесят лет, слишком старый
возраст для роли, которую ему приписывали; но воображение мало рассуждает; к
тому же, Нерон-Антихрист день ото дня все более и более становился отвлеченной
личностью, вне человеческих условий жизни. Еще долго говорили о его возвращении
и после того, когда он не мог бы уже жить.
Что касается евреев, они были еще более пламенны и еще более мрачны, чем
когда-либо. По-видимому, религиозное сознание этого народа считало своим долгом
по поводу каждого кризиса, волновавшего обширную империю, создавать
аллегорические композиции, в которых они давали волю своим заботам о будущем.
Положение
в 97 году во многих отношениях очень походило на положение вещей
в 68 году; чудеса природы, по-видимому, удвоились. Падение Флавиев
произвело почти такое же впечатление, как исчезновение дома Юлиев. Евреи
думали, что опять был поставлен вопрос о существовании империи. Обоим падениям
предшествовало кровавое безумие, и за обоими следовали грандиозные волнения,
дававшие повод сомневаться в прочности государства, настолько потрясенного. В
течение этого нового затмения римского могущества фантазия мессианистов
развернулась; курьезные вычисления конца империи и конца времен возобновились.
Апокалипсис времен Нервы появился, согласно обыкновению при выпуске подобных
произведений, под предполагаемым именем, именем Ездры. Этот писец начал
становиться весьма знаменитым. Ему приписывали преувеличенную роль в
восстановлении священных книг. К тому же подделыватель для своей цели нуждался
в имени лица, современного такой эпохе в жизни еврейского народа, которая была
бы аналогична переживаемой им во время появления этого Апокалипсиса. Это
произведение, по-видимому, первоначально было написано на греческом языке,
полном гебраизмов,
сходным с языком Апокалипсиса Иоанна. Оригинал потерян; но с греческого текста
были сделаны переводы на латинский, сирийский, армянский, эфиопский и арабский
языки, в которых и сохранился этот ценный документ, благодаря чему удалось восстановить
его в первоначальном виде. Это прекрасное произведение, в истинно еврейском
духе, написанное фарисеем, вероятно, в Риме. Христиане признали его и читали с
жадностью и, немного подправив одно-два места, сделали из него христианское
произведение, весьма назидательное.
Во многих отношениях можно рассматривать автора, как последнего пророка
Израиля. Произведение разделяется на семь видений, по большей части
представляющих разговоры между Ездрой, сосланным в Вавилон и ангелом Уриелем;
но за этой библейской личностью легко различается пламенный еврей эпохи Флавия,
полный гнева по поводу разрушения Титом иерусалимского храма. Воспоминания о
мрачных днях семидесятого года подымаются в его душе, как дым в пропасти, и
наполняют его святым негодованием. Как далек этот пылкий зелот от Иосифа,
называвшего
негодяями защитников Иерусалима! Вот, наконец, настоящий еврей, сожалеющий о
том, что он не был с теми, которые погибли при пожаре храма. Согласно ему,
революция Иудеи не была безумием. Защищавшие с отчаянием Иерусалим сикарии,
которыми пожертвовали умеренные и которых они выставляли единственными
виновниками несчастья нации, эти сикарии, по мнению автора, были святыми. Их
постигла завидная судьба. Они будут великими людьми будущего.
He было никогда более благочестивого и более проникнутого несчастьями Сиона
еврея, изливавшего
перед Иеговой свои жалобы, смешанные с молитвами. Глубокое сомнение мучает его,
сомнение по преимуществу еврейское, то же самое, которое охватило Псалмопевца,
когда он «видел мир грешников». Израиль избранный народ, Бог обещал ему
счастье, если он будет соблюдать Закон. Даже и не выполнив со всей строгостью
этого условия, что выше человеческих сил, Израиль все-таки лучше других
народов. Во всяком случае, он никогда не соблюдал так строго Закон, как в
последнее время. Почему же Израиль самый несчастный народ и тем более
несчастен, чем более праведен?
Автор хорошо понимает, что старое материалистическое разрешение этой
проблемы несостоятельно. Поэтому его душа была охвачена глубоким смущением:
«О, Владыко Господи! Ты из всех лесов на земле и из всех дерев на ней избрал
только одну виноградную лозу; ты из всего круга земного избрал Себе одну
пещеру, и из всех цветов во вселенной Ты избрал Себе одну лилию; Ты из всех
пучин морских наполнил для Себя один источник, а из всех построенных городов
освятил для Себя один Сион из всех сотворенных птиц Ты наименовал Себе одну
голубицу и из всех сотворенных скотов Ты избрал себе одну овцу; из всех
многочисленных народов Ты приобрел Себе один народ и возлюбил его, дал ему
закон совершенный. Но ныне, Господи, отчего же ты предал одного многим, и на
одном корне Ты насадил другие отрасли, и рассеял Твой единственный народ между
многими народами? И попрали его противники, обетованиям Твоим и заветам Твоим
не веровавшие. И если Ты уже сильно возненавидел народ Твой, то пусть бы он
Твоими руками наказывался.
«Ты сказал, что для нас создал мир, о прочих же народах, происшедших от
Адама, Ты сказал,
что они ничто, но подобно слюне... И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто
Тобою признанные, начали владычествовать над нами, пожирать нас. Мы же, народ
Твой, который Ты назвал Твоим первенцем, единородным возлюбленным Твоим,
преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы
наследия с веком? И доколе это?
«Сион пустыня, Вавилон счастлив. Разве это справедливо? Сион много грешил?
Хорошо. Но разве Вавилон более неповинен? Я так думал раньше, чем прибыл сюда;
но когда я пришел сюда, что же я увидел? Такое нечестие, что я поражался, что
Ты их поддерживаешь в то время, когда за гораздо меньшее разрушил Сион. Какой
иной народ познал тебя, кроме Израиля? И какое племя верило в Тебя, кроме
Иакова? И который был менее вознагражден? Я прошел среди народов и видел, что
они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о заповедях Твоих. Итак, взвесь на
весах и наши беззакония и их; правда, у нас мало верных, но у них совсем их
нет. Однако, они пользуются глубоким миром, а наша жизнь — жизнь бегающего
кузнечика; мы проводим наши дни в страхе и боязни; нам было бы лучше не
существовать, чем мучиться таким образом, не зная, в чем заключается наш
грех.
«О, зачем мы не сгорели тоже в пожаре Сиона, мы не лучше тех, которые
погибли там.»
Ангел Уриель, собеседник Ездры, уклоняется, насколько возможно, от
неотразимой логики его протеста. Тайны Бога так глубоки! Человеческий ум так
ограничен! Забросанный вопросами
Уриель спасается при помощи мессианской теории, сходной с христианской. Мессия,
сын Бога, но обыкновенный человек, из рода Давидова, скоро появится над Сионом,
в своей славе, окруженный лицами, которые не умерли, т. е. Моисеем,
Енохом, Ильей и самим Ездрой. Он упоминает о десяти племенах земли Arzareth.
Дав сражение нечестивым и победив их, он будет царствовать четыреста лет на
земле со своими избранниками. После этого Мессия умрет, а вместе с тем и все
живущее, и мир на семь дней охватит примитивная тишина. Затем появится новый
мир; наступит всеобщее воскресение, Всевышний взойдет на престол, и начнется
окончательный всеобщий суд.
Оборот, который был склонен принять еврейский мессианизм, здесь виден ясно.
Вместо вечного царства, о котором мечтали древние пророки для рода Давидова и
которое мессианисты со времен псевдо-Даниила предоставляли своему идеальному
царю, создали
временное царство Мессии. Мы видели, как автор христианского Апокалипсиса
определял время этого царствования в тысячу лет, псевдо-Ездра довольствуется
четырьмястами лет. Самые разнообразные мнения распространялись среди евреев по
этому поводу. Псевдо-Варух, не определяя границ, ясно говорит, что мессианское
царство продолжится не дольше, чем смертная земля. Всемирный суд у него отделен
от наступления мессианского царства, а председательство на нем предоставляется
одному Всевышнему, а не Мессии. Христианское верование некоторое время
колебалось по этому поводу, что подтверждает Апокалипсис апостола Иоанна. Но
идея вечного Мессии, устанавливающего бесконечное царство и судящего мир, взяла
верх и стала существенной и отличительной чертой христианства:
Подобная теория возбуждала вопрос, которым, как мы видели, были уже
озабочены св. Павел и его верующие. По подобной системе оказывалось
огромное различие между судьбой тех, которые будут живы ко времени появления
Мессии и тех, которые умрут ранее. Наш ясновидящий даже задает себе странный,
но логический вопрос: почему Бог не устроил так, чтобы все люди жили
одновременно? Он выходит из затруднения при помощи гипотезы о временном
убежище, где хранятся до всемирного суда души умерших святых. В великий день
суда убежища откроются, так что современники появления Мессии будут иметь
только одно преимущество, они насладятся четырехсотлетним царствованием. В
сравнении с вечностью, это не имеет значения; так что автор считает себя в
праве утверждать, что не будет привилегий, первые и последние будут вполне
равны в день суда. Весьма понятно, души праведников, содержимые, таким образом,
как бы в некоторого рода тюрьме, выражают нетерпение и говорят часто: «Долго ли
еще это будет продолжаться? Когда же наступить день жатвы?» Ангел Иеремиил им
отвечает: «Когда число вам подобных будет полное». Это время приближается. Как
чрево женщины, после девяти месяцев беременности, не может удержать плода,
который носит, так и склады scheol, слишком переполненные, выпустят
души, в них заключенные. Продолжительность мира разделяется на двенадцать
периодов; десять с половиной из них уже прошли. Мир стремится к своему концу с
невероятной быстротой. Человеческая порода в полном упадке; рост людей
уменьшается; как дети, рожденные от престарелых родителей, наши племена не
имеют сил былых времен. «Век потерял свою молодость, и времена стареют».
Признаки последних дней те же самые, перечисление которых мы встречали
двадцать раз. Труба прогремит, порядок природы будет нарушен, из дерева потечет
кровь, и камень заговорит. Енох и Илья появятся для обращения людей. Нужно
торопиться умереть; так как настоящие страдания ничто в сравнении с теми,
которые появятся. Чем более мир будет слабеть, вследствие старости, тем более
он будет становиться скверным. Правда день ото дня все более и более будет
удаляться с земли; добро будет казаться в изгнании.
Небольшое число избранных — господствующая мысль нашего мрачного мечтателя.
Вход в жизнь вечную похож на тесный проход в море, на узкий скользкий путь в
город; направо — огненная пропасть; налево — бездонные воды; один человек
еле-еле может держаться на нем. Но море, в которое входят таким образом —
обширное, а город полон всяких благ. В мире больше серебра, чем золота, более
меди, чем серебра, более железа, чем меди. Избранные это золото; вещи чем реже,
тем драгоценнее. Избранные — украшение Бога. Украшение не имело бы никакой
цены, если бы оно было обыденным. Бог не огорчается массами погибающих.
Презренные! Они так же мало существуют, как дым, как пламя; они сгорают, они
мертвы... Из этого видно, какие глубокие корни имела в иудаизме жестокая
доктрина об избрании и предопределении, которая впоследствии доставила столько
мучений многим людям с прекрасной душой. Подобная страшная жестокость,
обыденная для всех школ, озабоченных проклятием, по временам возмущает
благочестивое чувство автора. Он восклицает:
«О, земля, что ты сделала, породив такое количество существ для погибели?
Лучше было бы, если бы нам не было дано сознание, которое ведет нас только к
мучениям! Человечество плачет; животные радуются: судьба последних предпочтительнее
нашей; они не ждут суда, им нечего бояться мучений, после смерти их ничто не
ожидает. Зачем нам жизнь, если благодаря ей нам предстоят в будущем мучения?
Лучше небытие, нежели мучения в будущем».
Вечный отвечает, что человек был предупрежден для того, чтобы он не имел
оправданий и не мог бы возражать.
Автор все более и более погружается в причудливые вопросы, вызываемые этой
ужасной догмой. С той минуты, как человек испустил последний вздох,
подвергается ли он осуждению и мучениям, или существует промежуток времени до
суда, в течение которого его душа остается в покое? Согласно автору, судьба
каждого решается в момент его смерти. Злые, не допущенные в убежище душ,
находятся в положении блуждающих духов, временно мучимых семью страданиями, из
которых два главные состоят в том, что они видят блаженство, которым пользуются
в убежище души праведников, и приготовление мучений, предназначенных для них
самих. Праведники, охраняемые в убежище ангелами, наслаждаются семью радостями,
из которых наиболее приятная — это видеть тоску нечестивых душ и мучения, их
ожидающие. Автор, в глубине души милосердный, протестует против чудовищности
своей теологии. «Разве праведные не могли бы молиться за проклятых, сын за
отца, брат за брата, друг за друга?» Ответ ужасен. «Как в нынешней жизни отец
не может дать доверенность сыну, сын отцу, господин рабу, друг другу, вместо
него болеть, спать, есть, излечиваться, так и в тот день никто не сможет
вмешаться в пользу другого; каждый принесет свою праведность или неправедность».
Напрасно Ездра возражает Уриелю, приводя в пример Авраама и других святых,
молившихся за своих братьев. День суда установит положение окончательно,
торжество правосудия будет таково, что сам праведник не будет жалеть грешников.
Мы вполне сочувствуем ответу автора, разумному и прекрасному:
«Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и последнее: лучше было не давать
земли Адаму, или, когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешал. Что пользы
людям — в настоящем веке жить в печали, a по смерти ожидать наказания? О, что
сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только
одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано
бессмертие, а мы делали дела, достойные смерти?».
Псевдо-Ездра признает волю, но воля имеет мало смысла при системе, где
господствует преувеличенная идея о предопределении. Мир, был создан для
Израиля, остальная часть человечества проклята.
«И ныне, Господи, я не буду просить за других людей (ты лучше знаешь, чем я,
относительно их). Но скажу о народе Твоем, о котором соболезную, о наследии
Твоем, о котором проливаю слезы... Спроси землю, и она скажет тебе, что ей-то
должно оплакивать падение столь многих, рождающихся на ней, ибо все рожденные
из нее от начала и другие, которые имеют произойти, едва не все погибают и
только множество их предается истреблению...
«Не старайся более испытывать о множестве погибающих. Ибо они, получивши
свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его, а еще
и праведных Его
попрали и говорили в сердце своем: нет Бога, хотя и знали, что они смертны. Как
вас ожидает ??, о чем сказано прежде, так и их жажда и мучение, которые
приготовлены. Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные обесславили
имя Того, Кто предуготовил им жизнь...
«Я сохранил для Себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из
множества. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится
ягода Моя и насаждение Мое, которое Я вырастил с большим трудом!..»
Специальное видение предназначено, как почти во всех Апокалипсисах, для
изображения в
загадочном виде философии современной ему истории, и, по обыкновению, можно
определить точное время выхода книги. Огромный орел (орел — символ римской
империи у Даниила распростер свои крылья над всей землей и держит ее в своих
когтях. У него шесть пар больших крыльев и четыре пары подкрыльев или
контр-крыльев, и три головы. Шесть пар больших крыльев — это шесть императоров.
Второй из них правит так долго, что правление ни одного из его преемников не
равняется и половине лет его правления. Ясно, это Август; шесть императоров, о
которых говорится, принадлежат к дому Юлия: Цезарь, Август, Тиберий, Калигула,
Клавдий, Нерон, властители Востока и Запада. Четыре пары малых крыльев или
контр-крыльев, четыре узурпатора или анти-цезаря, Гальба, Отон, Вителий и
Нерва, которые, по мнению автора, не могут рассматриваться, как настоящие
императоры. Правление трех первых анти-цезарей — период волнений, во время
которых являлась мысль о гибели империи; но империя подымается опять, однако,
не такой, какой была первоначально. Три головы (Флавий) представляют эту новую
возрожденную империю. Эти три головы всегда действуют вместе, вводя много
нового, превосходя в тирании Юлиев, доводят до предела нечестия империи орла
(разрушением Иерусалима) и означают конец. Средняя голова (Веспасиан) самая
большая; все три пожирают малые крылья (Гальбу, Отона и Вителия), желающих
царствовать. Средняя голова умирает; другие две (Тит и Домициан) царствуют, но
правая голова пожирает левую (ясный намек на народное поверие о братоубийстве
Домициана; правая голова, убив другую, убита в свою очередь; только большая
голова умирает в своей постели, но не без мучений (намек на раввинские басни о
болезнях, причинивших смерть Веспасиану в наказание за его преступления против
еврейской нации).
Тогда наступает черед последней пары малых крыльев, т. е. Нервы,
узурпатора, наследовавшего правой голове (Домициану), находящегося в таком же
отношении к Флавиям, в каком Гальба, Отон и Вителий находились к Юлиям. Это
последнее правление коротко и полно волнений; вернее, это не царствование, а
устроенный Богом переход к концу времен. И действительно, через несколько
мгновений, согласно нашему ясновидцу, последний анти-цезарь (Нерва) исчез; тело
орла охватывается огнем, и вся земля поражена изумлением. Наступает конец
языческого мира, появляется Мессия и осыпает пламенными упреками римскую
империю:
«Ты правил миром ужасом, а не по правде; ты утеснял кротких, обижал
миролюбивых, любил лжецов, разорял жилища тех, которые приносили пользу, и
разрушал стены тех, которые не делали тебе вреда. И взошла ко Всевышнему обида
твоя, и гордыня твоя — к Крепкому. И воззрел Всевышний на времена гордыни, — и
вот, они кончились, и исполнилась мера злодейств ее. Поэтому исчезни ты, орел,
с страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, с злыми головами
твоими, с жестокими когтями твоими и со всем негодным телом своим, чтоб
отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия — и надеялась на суд и
милосердие своего Создателя».
Затем римляне будут судимы, судимы живыми и на месте же уничтожены. Тогда
еврейский народ вздохнет свободно. Бог сохранит его в радости до Судного Дня.
После этого нельзя сомневаться, что автор писал в правление Нервы,
казавшееся, непрочным и не имевшим будущего, благодаря преклонному возрасту и
слабости императора, вплоть до усыновления Траяна (конец 97 года).
Автор Апокалипсиса Ездры, как и автор Апокалипсиса Иоанна, чуждый настоящей
политике, верил, что ненавистная ему империя, необъятных ресурсов которой он не
замечал, приходит к своему концу. Авторы обоих страстных еврейских откровений
аплодируют вперед гибели своего врага. Впоследствии мы увидим возобновление
этих надежд при неудаче Траяна в Месопотамии. Постоянно предостерегая моменты
слабости империи, еврейская партия при каждой черной точке на горизонте,
вперед, по предположению, поднимала крик торжества и аплодировала. Надежда на
еврейскую империю, наследницу римской, еще наполняла горячие души, ужасные
избиения 70 г. не уменьшили ее. Автор Апокалипсиса Ездры в своей
молодости, может быть, дрался в Иудее; и no временам кажется, он сожалеет, что
не погиб там. Чувствуется, что огонь не погас, что он тлеет в пепле; раньше чем
потерять окончательно надежду, Израиль еще раз попытает свою судьбу. Восстания
евреев при Траяне и Адриане послужили ответом на крик энтузиаста. Пришлось
уничтожить Бетар, чтобы подавить новое поколение революционеров, вышедшее из
пепла героев 70-го года.
Судьба Апокалипсиса Ездры не менее странная, чем и само произведение. Как
книгой Юдифь и речами о «господстве разума», так и им пренебрегли евреи; книга,
написанная по-гречески, скоро стала им чуждой; но с самого своего появления она
с горячностью была принята христианами и считалась одной из книг канона Ветхого
Завета, и действительно написанной Ездрой. Автор послания, приписываемого
Варнаве, автор апокрифического послания, называемого вторым Посланием Петра,
конечно, читали его. Лже-Гермас, по-видимому, подражал плану, порядку,
расположению видений и способу беседы. Климент Александрийский придавал ей
большое значение. Греческая церковь все более удалялась от иудео-христианства,
уходя и теряя из виду свой оригинал. Латинская церковь различно смотрела
на разбираемую
нами книгу. Ученые, как святой Иероним, замечали апокрифический характер ее и с
презрением ее отвергали, а святой Амвросий пользовался ей более, чем какой
другой священной книгой и не делал никакого различия между ей и Священным
Писанием. Вигилий черпает из нее зачатки своей ереси о бесполезности молитвы об
умерших. Кое-что из нее попадает в литургию. Роджер Бэкон ссылается на нее с
уважением. Христофор Колумб находит в ней доказательства другой земли за
океаном. Энтузиасты XVI в. питались ей. Фанатичка Антуанетта Буриньон
считала ее прекраснейшей из всех священных книг.
Действительно, мало книг доставили так много основ христианской теологии.
Члены,
первоначальный грех, малое число избранных, бесконечность страданий в аду,
мучения огнем, свободное предпочтение Богом нашли там свое несмягченное
выражение; если ужас смерти усилен христианством, то это на книги, подобные
нашей, надо возложить ответственность. Мрачная служба, полная великих грез,
справляемая над гробами умерших, по-видимому, внушена видениями или,
правильнее, кошмарами псевдо-Ездры. Сама христианская иконография много заимствовала
из этих причудливых страниц относительно всего, что касается изображения
положения умерших: византийские мозаики и миниатюры, изображающие воскресение и
последний суд, по-видимому, составлены, согласно описанию «склада» душ нашего
автора. Из его же утверждения создалась идея о восстановлении Ездрой утерянных
писаний. Ангел Уриил обязан ему своими изображениями в христианском искусстве;
присоединение этого нового небожителя к Михаилу, Гавриилу и Рафаилу дало
соответствующих хранителей четырем углам престола Бога, а, следовательно, и
четырем главным пунктам. Совет тридцати исключил из латинского канона эту
почитавшуюся древними отцами книгу, что не помешало перепечатать ее вслед за
изданиями Вульгаты, в ином виде.
О быстроте, с которою лже-пророчество Ездры было принято христианством,
можно судить по тому, как ей воспользовались
для маленького писания, подражания «Посланию к Евреям», которое в древности
приписывали Варнаве. Автор этого произведения цитирует лже-Ездру одинаково с
Даниилом, Енохом и древними пророками. Одна вещь в особенности поразила его у
Ездры, это дерево, из которого текла кровь; конечно, в этом он усмотрел
изображение креста. Все дает повод думать, что послание, приписанное Варнаве,
составлено, как и Апокалипсис Ездры, во время правления Нервы. Тот, кто его
составил, прилагает или, вернее, подгоняет к своему времени пророчество Даниила
о десяти царствах (Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба,
Отон, Веспасиан, Тит) и о «маленьком царе» (Нерва), который появится, чтобы
унизить трех (Флавиев) и уничтожить одного (Домициана), ему предшествовавшего.
Легкость, с которой автор считал себя в праве признать пророчество
лже-Ездры, тем более странна, что многие ученые христианства и он сам
высказывались за необходимость отделиться от иудаизма. Даже гностики в этом
отношении не
высказывались сильнее. Автор представляется нам как бывший еврей, очень
сведущий в ритуале, агаде и раввинских спорах, но очень восстановленный против
религии, которую покинул. Обрезание, по его мнению, всегда было заблуждением
евреев, недоразумением, внушенным им каким-нибудь развращенным гением. Храм —
тоже ошибка; культ, совершавшийся в Неле, был почти идолопоклонством; он
целиком был основан на языческой идее, на возможности поместить Бога в одном
доме. Храм, разрушенный по вине евреев, не восстановится более; истинный храм
тот, который создается в сердце христиан. Иудаизм в общем не более, как
аберрация, дело злого ангела, который понудил евреев понимать навыворот
приказания Бога. Автор более всего боится, чтобы христианин не принял вида
еврейского прозелита. Все было изменено Иисусом, даже суббота. В прошлое время
суббота, представлявшая окончание одного мира, перенесена теперь на восьмой
день и выражает радость, с какой относятся к началу нового мира, созданного
вознесением и воскресением Иисуса Христа. Покончили с жертвоприношениями,
покончили с Законом; весь Ветхий Завет был ничто иное, как символ. Крест Иисуса
разгадка всех загадок; автор находит его повсюду при посредстве самых
причудливых ghematrioth. Страсти Иисуса -очистительная жертва, все
другие были ее изображением. Пристрастие к аллегории, господствовавшее в
древнем Египте и в еврейском Египте, проявилось в этих объяснениях, не имеющих
в себе ничего, помимо предвзятости. Как все читатели Апокалипсиса, автор
считает, что наступил канун суда. Времена тяжелые; Сатана имеет полную власть в
делах здешнего мира; но недалек тот день, когда он и его близкие погибнут:
«Господь близок со своей наградой».
Сцены беспорядка, происходившие изо дня в день в империи, оправдывали
мрачность предсказаний псевдо-Ездры и предполагаемого Варнавы. Правление
слабого старика, получившего власть по согласию всех партий, в минуту
неожиданности, вызванной смертью Домициана — было агонией. Нерешительность,
приписываемая ему, была ничем иным, как мудростью. Нерва чувствовал, что армия
продолжает сожалеть Домициана, и с нетерпением переносит господство
гражданского элемента. Честные люди были у власти; но правление честных людей,
когда оно не опирается на армию, всегда слабо. Одно ужасное происшествие
показало всю глубину зла. Около 27 октября 97 г. преторианцы, найдя
себе вождя в некоем Casperius Elianus, окружили дворец и стали громко
требовать наказания убийц Домициана. Несколько мягкий по темпераменту, Нерва не
был создан для подобных сцен. Он честно предложил пожертвовать собою, но не мог
воспрепятствовать убийству Парфения и тех, которые сделали его императором.
Этот день был решающим — и спас республику. Нерва, как настоящий мудрец, понял,
что он должен присоединить к себе молодого полководца, который бы своей
энергией пополнил то, чего недоставало ему. Он имел родных; но, озабоченный
единственно пользой государства, он хотел выбрать наиболее достойного. В
либеральной партии был прекрасный полководец Траян, который командовал на Рейне
в Кельне. Нерва выбрал его. Этот великий акт политической добродетели обеспечил
победу либералов, которая до тех пор была сомнительной с самой смерти
Домициана. Истинный закон цезаризма, усыновление, был найден. Солдатчина была
обуздана; логика требовала, чтобы какой-нибудь Септимий Север со своим
отвратительным правилом: «ублажи солдата; и смейся лад всем», наследовал
Домициану. Но благодаря Траяну, неизбежность истории была отсрочена на один
век. Зло было побеждено, не на тысячу лет, как думал Иоанн, не на четыреста,
как мечтал псевдо-Ездра, но на сто лет, что уже много.
Глава XVII. Траян. — Добрые и великие императоры
Усыновление Траяна обеспечило человеческой цивилизации после жестоких
испытаний — целый век
благополучия. Империя была спасена. Дышащие ненавистью, предсказания писателей
Апокалипсиса получили полное опровержение. Мир хотел еще жить; империя,
несмотря на гибель Юлиев и Флавиев, нашла в своей военной организации силы,
которых не подозревали поверхностные провинциалы. Траян, которого выбор Нервы
поставил во главе империи, был великим человеком, истинным римлянином,
господином самого себя; хладнокровный в распоряжениях, державший себя достойно
и важно. Конечно, он имел менее политического гения, чем Цезарь, Август,
Тиберий; но он был выше их по справедливости и доброте; в военных талантах он
не уступал Цезарю; он не делал себе специальности из философии, как Марк
Аврелий, но равнялся ему по практической мудрости и доброжелательству. Его
твердая вера в либерализм никогда не обманывала его. Он показал великий пример,
что партия до героизма оптимистическая, утверждающая, что нужно считать людей
хорошими, если не доказано, что они дурны, может примириться с твердостью
властелина. Поразительная вещь! Мир идеологов и людей оппозиции, которых смерть
Домициана привела к власти, сумел управлять. Он искренне примирился с
необходимостью, и получилась прекрасная вещь: монархия, созданная обращенными
республиканцами. Старый Виргиний Руф, великий гражданин, всю жизнь мечтавший о
республике и который сделал все, что было в его силах, дабы провозгласить ее по
смерти Нерона, как она была провозглашена после смерти Калигулы; Виргиний,
знаменитый своими многочисленными отказами от империи, вполне присоединился и
служил центром этого избранного общества. Радикальная партия отказалась от
своей химеры и признала, что если до сих пор принципат и свобода были
непримиримы, то теперь, благодаря счастливым временам, это чудо совершилось.
Гальба один момент предвидел подобную комбинацию элементов, по внешности
противоречивых, Нерва и Траян ее осуществили. При них империя стала
республикой, или вернее, император стал первым и единственным республиканцем
империи. Великие люди, которых восхваляли во всем мире, окружили императора.
Это были: Тразей, Гельвидий, Сенецион, Катон и Брут греческие герои, изгнавшие
тиранов из своей страны. Это и объясняет тот факт, что, начиная
с 98 г., нет более протестов против принципата. Философы,
составлявшие в некотором отношении душу
радикальной оппозиции и ведшие себя враждебно во время Флавиев, вдруг смолкли;
они были удовлетворены. Между новым режимом и философией был заключен тесный
союз. Нужно сказать, что никогда не было, чтобы во главе правительства стояла
подобная группа людей. Это были Плиний, Тацит, Виргиний Руф, Юлий Маврикий,
Гратилла и Фанния. Благородные мужчины и целомудренные женщины, которых всех
преследовал Домициан и каждый из которых имел родственника или друга, погибшего
во время его отвратительного царствования.
Время чудовищ прошло. Великая раса Юлиев и семейств, с ней связанных,
развернула перед миром страшную картину безумия, величия и разврата. Отныне
острота римской крови как бы истощилась. Рим истратил всю свою злобу. Это
принадлежность аристократии, которая вела свою жизнь несдержанно, делаться к
старости порядочной, правоверной, нравственной. Римская знать, самая ужасная из
когда-нибудь существовавших, приобретает изящество крайней добродетели,
деликатности и скромности.
Эта перемена произошла, главным образом, благодаря Греции. Греческий педагог
добился того, что его приняла римская знать, для чего ему пришлось переносить
ее презрение, ее грубость, ее отвращение ко всему разумному. Во времена Юлия
Цезаря, Секстий-отец перенес из Афин в Рим гордую нравственную дисциплину
стоицизма, испытание совести, аскетизм, воздержание и любовь к бедности. После
него Секстий-сын, Сотион Александрийский, Аттала, циник Димитрий, Метроний,
Кларан, Фабиан, Сенека представляют образцы деятельной и практической философии,
употребляя все средства, проповедь, влияние на совесть и сознание, для
пропаганды добродетели. Благородная борьба философов с Нероном и Домицианом, их
изгнание и мучения сделали их дорогими для лучшего римского общества. Их
влияние все росло вплоть до Марка Аврелия, при котором они царствовали. Сила
партии всегда пропорциональна числу ее мучеников. Философия имела своих
мучеников, она страдала, как и все благородное, от недавно пережитых ужасных
режимов; она выиграла, благодаря моральной реакции, вызванной излишествами зла.
Тогда родилась идея, дорогая для риторов; что тиран прирожденный враг
философии, а философия прирожденный враг тирана. Все учителя Антонина были
переполнены этой идеей; добрый Марк Аврелий провел свою юность, проповедуя
против тиранов; отвращение к Нерону и к тем императорам, которых Плиний старший
называл «факелы, сжигающие человечество», наполняло литературу того времени.
Траян всегда относился к философам с большим уважением и деликатным вниманием.
Между греческим воспитанием и римской гордостью был заключен тесный союз.
«Жить, как подобает римлянину, как подобает человеку, было мечтой всякого
уважавшего себя; человека Марка Аврелия не было еще на свете; но нравственно он
уже родился; идейное господство, из которого он вышел, уже вполне установилось.
Конечно, древняя философия по временам бывала более великой в своей
оригинальности, но она никогда так глубоко не проникала в жизнь и в общество.
Различие школ почти стерлось; общие системы были оставлены. Поверхностный
эклектизм, подобный тому, какой любят люди общества, стремящиеся поступать
хорошо, был в моде. Философия становилась красноречивой, литературной,
проповеднической, заботясь более об улучшении морали, чем об удовлетворении
любопытства. Масса людей делала ее правилом и даже законом своей внешней жизни.
Музоний Руф и Артемидор были настоящими исповедниками своей веры, героями
стоической добродетели. Евфрат Тирский представлял идеал философа, светского
человека. Его личность была полна очарования, манеры он имел наиболее
изысканные. Дион Златоуст создал конферондии, похожие на проповеди, и приобрел
огромный успех, никогда не сходя с наиболее высокого тона. Добрый Плутарх писал
для будущего «Мораль в действии», полную здравого смысла, честности, и
представлял греческую античность мягкой и отеческой, мало похожей на
действительную (блиставшую красотой, свободой и гением), но лучше
приспособленной к действительным потребностям воспитания. Эпиктет проповедовал
то, что вечно, занимал место рядом с Иисусом, не на золотой горе Галилеи,
освещенной солнцем царства Божия, но в мире идеала безупречной добродетели. Без
воскресения, без химерического Фавора, без царствия Божия, он проповедовал
жертву, отречение и самопожертвование. Он был восхитительной снежной вершиной,
которую человечество созерцает с некоторым ужасом на своем горизонте; у Иисуса
была более приятная роль — бога среди людей; улыбка, веселость, прощение ему
были дозволены.
Литература, с своей стороны, ставшая внезапно серьезной и достойной,
свидетельствовала об огромном улучшении нравов высшего общества. Уже Квинтилиан
в самые тяжелые дни правления Домициана набросал кодекс ораторской честности,
который оказался в таком полном согласии с нашими лучшими умами
XVII и ХVIII веков, с Роланом и господами Порт-Рояля; а между
тем честность литературы никогда не бывает сама по себе: только серьезные века
могут иметь серьезную
литературу. Тацит писал историю с тем высоким чувством аристократа, которое, не
предохраняя его от ошибок в мелочах, внушало ему тот добродетельный гнев,
который сделал из него вечный призрак для тиранов. Светоний серьезными научными
трудами подготавливался к своей роли точного и беспристрастного биографа.
Плиний, человек высокообразованный, либеральный, гуманный, добродетельный и
деликатный, основывает школы и общественные библиотеки; можно сказать,
настоящий француз наиболее приятного общества ХVIII в. Ювенал, искренний в
своем красноречии и нравственный в описании порока, имеет прекрасные гуманные
чувства, и сохраняет, несмотря на запятнанную жизнь, чувство римской гордости.
Это был как бы поздний расцвет прекрасной интеллектуальной культуры, созданной
сотрудничеством греческого гения с гением итальянским. Эта культура уже в
глубине была поражена смертью; но раньше, чем умереть, она дала пучок цветов и
листьев.
Мир, наконец, будет управляться разумом. Философия будет пользоваться в
течении ста лет правом, которым, предполагается, она обладает, делать народы
счастливыми. Масса прекрасных законов, составляющих лучшую часть римского
права, принадлежат этому времени. Начинается общественная помощь; в
особенности, дети явились предметом забот государства. Истинно нравственным
чувством было проникнуто правительство; никогда, вплоть до восемнадцатого века,
не было сделано так много для улучшения судьбы человечества. Император — это
бог, путешествующий по земле и знаменующий свой проезд благодеяниями. Это не
значит, что подобный
режим не отличался сильно от того, который мы считаем обязательным для
либерального правительства. Напрасно бы искали каких-нибудь следов
парламентских или представительных учреждений; положение мира не соответствовало
ничему подобному. Мнение политиков того времени считало, что власть
принадлежит, по некоторого рода естественной доверенности, людям честным,
разумным и умеренным. Это назначение делается судьбой, fatum; раз это
случилось, император управляет империей также, как баран ведет свое стадо, а
бык свое. Рядом с этим язык вполне республиканский. Самым искренним образом эти
прекрасные властители верили, что они представляют государство, основанное на
естественном равенстве всех граждан, царство, имеющее основой уважение к
свободе. Свобода, правосудие, уважение к оппозиции были их основными правилами.
Но эти слова, заимствованные из греческих республик, которыми были пропитаны
образованные люди, не имели большого смысла для настоящего общества того
времени. Гражданское равенство не существовало. Различие между богатым и бедным
было записано в законе; римский аристократ или италиец сохранял свои
привилегии; сенат, восстановленный при Нерве в своих правах и достоинствах,
оставался таким же замкнутым, как и всегда; cursus honorum был исключительной
привилегией знати. Знатные римские фамилии приобрели опять исключительное
господство в политике; вне их нельзя было достигнуть ничего.
Победа этих семейств, несомненно, была правильной победой, так как при
гнусных правлениях Нерона и Домициана они служили убежищем, куда укрылись
добродетель, самоуважение, инстинкт разумного повелевания, хорошее литературное
и философское воспитание. Но эти семьи, как всегда, составляли замкнутый мир.
Дело партий консервативно-либеральной и аристократической, приобретение власти
Нервой и Траяном, положило конец двум вещам — беспорядкам казармы и значению
людей Востока, лакеев и фаворитов императоров. Отпущенники и люда Египта и
Сирии не могли уже заставлять трепетать все, что было лучшего в Риме. Эти
презренные, сделавшиеся господами, благодаря своей угодливости, во время
правлений Калигулы, Клода и Нерона, которые были даже советниками и
наперсниками распутства Тита в начале его царствования, впали в ничтожество.
Раздражение, которое чувствовали римляне при виде почестей, оказываемых Ироду
Агриппе и Тиберию Александрийскому, уже не имело повода проявляться после
падения Флавиев. Сенат поднялся, но влияние провинции уменьшилось. Попытки
разбить лед официального мира окончились почти полной неудачей.
Эллинизм не пострадал; так как он сумел, благодаря своей гибкости или своему
высокому достоинству, заставить признать себя лучшим римским обществом. Но
иудаизм и христианство пострадали. Мы видели, как в первом веке, при Нероне и
при Флавиях, евреи и христиане два раза приближались к дому императора и
приобретали серьезное влияние. От Нервы до Коммода они не допускались и на
тысячу миль. Да к тому же евреи не имели знати: светские евреи, как иродиане и
Тиверий Александрийский, умерли; с этих пор все израильтяне представляются
фанатиками, отделенными от общества пропастью презрения. Собрание беззаконий,
глупостей и нелепостей — вот чем представлялся моисеизм в глазах наиболее
просвещенных людей того времени. Евреи представлялись одновременно суеверными и
неверующими, атеистами и склонными к самым грубым верованиям. Их культ
представлялся миром перевернутым вверх дном, вызовом разуму, преднамеренным
противоречием всем обычаям других наций. Искаженная смешным образом, их история
служит предметом бесконечных шуток. В ней находят некоторый род культа Бахуса.
«Антиох», говорили, «тщетно пытался улучшить эту ненавистную расу»... Наиболее
убийственным обвинением являлось обвинение в том, что они ненавидят все, что не
их, так как оно основывалось на особых мотивах и имело целью ввести в
заблуждение общественное мнение. Еще более опасной была распространенная идея о
том, что первым требованием от еврейского прозелита были презрение к богам и
обязательство забыть своих родителей, детей и братьев. Их добродетель, говорили
римляне, ничто иное, как эгоизм; их нравственность только показная; между ними
все дозволено. Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий держат себя в отношении
иудаизма и христианства далеко и высокомерно. Они их не знают и не хотят их
изучать. Тацит, пишущий для большого света, говорит о евреях, как об чужеземной
диковинке, вполне неизвестной тем, для кого он пишет, и его ошибки нас
удивляют. Исключительная вера этих благородных умов в римское воспитание делало
их невнимательными ко всем доктринам, которые представлялись им чуждыми и
абсурдными. История должна говорить с уважением о честных и смелых политических
людях, вытащивших мир из той грязи, в которую бросили его последний Юлий и
последний Флавий; но они имели недостатки, как совершенно естественные последствия
их достоинств. Это были аристократы, люди традиций, предрассудков, некоторый
род английских тори, почерпывающих свою силу в самых своих предрассудках. Они
были вполне римлянами, убежденными в том, что кто не богат и не хорошего
происхождения, тот не может быть честным человеком. Они не чувствовали той
склонности к чужеземным доктринам, от которых Флавии, более буржуазные, не
могли уберечься. Их окружало общество, достигшее власти вместе с ними. Тацит и
Плиний питают то же презрение к этим варварским доктринам. В течение всего
второго столетия, как бы ров отделял христианство от всего официального мира.
Четыре великие и добрые императора относились к нему вполне враждебною И только
при чудовище Коммоде мы опять находим, как при Клавдии, при Нероне и при
Флавиях «христиан в доме цезаря». Недостатки этих добродетельных императоров —
недостатки самих римлян, излишняя вера в латинскую традицию, печальное упорство
не признавать достоинств вне Рима. Много гордости и жестокости к низшим,
бедным, иностранцам, ко всем людям, которых Август презрительно называл
греками, которым дозволялась лесть, запрещенная итальянцам. Эти презренные
впоследствии взяли свое, показав, что они имеют свою знать и что они способны к
добродетели.
Вопрос о свободе был поставлен так, как не был поставлен ни в одной из
античных республик. Античный город, представлявший из себя ничто иное, как
разросшуюся семью, не мог иметь другой религии, кроме религии самого города,
которой почти всегда был культ мистических основателей, идея самого города. Не
признавая ее, исключали себя из числа горожан. Подобная религия вполне логична
в своей нетерпимости; но Александр был неблагоразумен, а Антиох Епифан еще
более в своих преследованиях в пользу одного специального культа, так как их
государства, создавшиеся при помощи побед, состояли из разных городов,
потерявших политическую самостоятельность. Цезарь понял это своим
проницательным умом. Впоследствии узкая идея римского города брала верх в
слабой степени и на короткие промежутки времени в течение первого столетия, и с
большей последовательностью в течение второго века. Уже при Тиберии, некто
Валерий Максим, производитель плохих книг и недобропорядочный человек, с видом
удивительной уверенности проповедует религию. Мы видели также Домициана, оказывающим
сильное покровительство латинскому культу и пытающимся создать нечто вроде
союза «трона с жертвенником». Все это было результатом чувства, аналогичного
тому, которое удерживает в католицизме массу маловерующих людей, убежденных,
что этот культ религия Франции. Марциал и Стаций, писатели скандальной хроники
своего времени, сожалевшие в глубине души о прекрасных днях Нерона, стали
серьезными, религиозными, аплодировали цензуре нравов, проповедовали уважение к
власти. Социальные и политические кризисы обыкновенно производят подобного рода
реакции. Общество в опасности уцепляется за то, за что может. Угрожаемый мир
сплачивается; уверенный, что всякая мысль ведет ко вреду, он становится
нерешительным, как бы сдерживая дыхание; так как он боится, что всякое движение
может разрушить хрупкое здание, служащее ему убежищем.
Траян и его преемники не возобновляли печальных излишеств мрачного
лицемерия, характеризовавшего правление Домициана. Но эти властители и их
окружающие в деле религии показали себя весьма консервативными. Спасение видели
только в старом римском духе. Такой философ, как Марк Аврелий, не был избавлен
от предрассудков. Он был суровым исполнителем предписаний официальной религии.
Братство салийцев не имело более исполнительного члена. Он старался походить на
Нуму, от которого считал свое происхождение, и со строгостью поддерживал
законы, запрещавшие чужеземные религии. Преданность — накануне смерти! День, в
который наиболее всего придерживаются этих воспоминаний, тот, в который они
затмеваются. Сколько вреда принесло дому Бурбонов то, что они слишком много
думали о святом Людовике и связывали себя с Кловисом и Карлом Великим!
К этому сильному предпочтению национального культа у великих императоров
второго столетия присоединялся страх перед гетериями, caetus illiciti,
или обществами, способными сделаться политическими партиями в городах. Простое
общество пожарных казалось подозрительным. Слишком много народу на семейном
празднике вызывало беспокойство властей. Траян хотел, чтобы приглашения
делались в ограниченном количестве и именные. Даже общество ad sustinendam
tenuiorum inopiam не были дозволены в городах, кроме тех, которые для этого
имели специальные грамоты. В этом отношении Траян действовал согласно всем
великим императорам, начиная с Цезаря. Невероятно, чтобы подобные меры были
приняты такими великими людьми, если бы они отчасти не оправдывались
необходимостью. Но административный дух второго века дошел до преувеличения.
Вместо того, чтобы заниматься общественной благотворительностью, как начало само
государство, не лучше ли было предоставить это свободным обществам! Подобные
общества были готовы образоваться повсюду; государство по отношению к ним было
полно несправедливости и жесткости. Оно хотело покоя во что бы то ни стало; но
когда власть стремится создать покой, при помощи уничтожения частной
деятельности, то он более вреден для общества, нежели те самые беспорядки,
которые желают предупредить, жертвуя свободой.
В этом и нужно видеть причину того, по-видимому, странного факта, что
христианство на деле оказывалось в худшем положении при разумном правлении
великих императоров второго века, нежели под бешеными ударами, которые наносили
ему негодяи первого века. Ужасы Нерона и Домициана продолжались несколько недель,
несколько месяцев; они были скоропреходящими актами зверства и притеснения,
плод причудливой и недоверчивой политики. В интервале, протекшем со времени
появления христианства вплоть до Траяна, ни разу не был издан закон против
христиан, делающий из них преступников. Законодательство против недозволенных
школ уже отчасти существовало; но его не применяли с такой строгостью, как
впоследствии. Режим весьма законный, но и весьма правительственный (как говорят
нынче) Траянов и Антонинов оказался более угнетающим для христианства, нежели
бешенство и злость тиранов. Эти великие консерваторы всего римского заметили, и
не без причины, серьезную опасность для империи в твердой вере в царство Божие,
представлявшее противоположность существовавшему обществу. Теократический
элемент, служивший основой иудаизму и христианству, их пугал. Они смутно, но
верно замечали то, что впоследствии ясно увидели Деций, Аврелий и Диоклетианы,
все реставраторы империи, разрушавшейся в третьем веке, т. е.
необходимость выбрать империю или церковь, а именно — полная свобода церкви,
это конец империи. Они боролись по чувству долга, они применяли тяжелый закон,
служивший условием существования общества того времени. Таким образом, тогда
были гораздо более далеки от какого-нибудь соглашения с христианством, чем при
Нероне или при Флавиях. Политика почувствовала опасность и была настороже.
Стоицизм сделался суровым; мир не принадлежал уже мягким душам, полным женской
сентиментальности, как Виргилий. Ученикам Иисуса пришлось в то время иметь дело
с людьми твердыми, непоколебимыми доктринерами, уверенными в своей правоте,
способными быть систематически суровыми, так как они были уверены, что они
действуют в интересах государства, и говорить самим себе с незыблемым
спокойствием: «что не полезно рою, то не полезно пчеле»;
Конечно, по нашим понятиям, Траян и Марк Аврелий поступили бы лучше, будучи
вполне либеральными и допустив полную свободу обществ, признав за корпорациями
право собственности, а при расколе — право разделять собственность корпорации
между отдельными ее членами, пропорционально числу приверженцев каждой партии.
Этого последнего было бы достаточно, чтобы предупредить опасность. Уже в
третьем веке именно империя поддерживала единство церкви, признавая настоящим
епископом какого-нибудь
города того, кто сносился с епископом Рима и был признан им. Что произошло бы в
четвертом веке во время горячей борьбы с арианством? Бесчисленные и
непоправимые расколы. Только императоры, а потом варварские короли были в
состоянии положить этому конец, разрешить вопрос: кто правоверный и кто
настоящий канонический епископ. Корпорации без связи с государством не
представляют опасности для государства, если государство остается действительно
нейтральным, не делается судьей правоверия и в случае споров по поводу
имущества, предоставленных на его решение, наблюдает правила разделения
социального капитала пропорционально числу членов. Таким образом, все
организации, опасные для спокойствия мира, были бы легко распущены, взаимные
раздоры превратили бы их в пыль. Только авторитет государства может остановить
расколы в подобных организациях; нейтралитет государства делает эти расколы
непоправимыми. Либеральная система — наиболее верное средство для распущения
слишком могущественных обществ. Вот чему научили нас многочисленные опыты. Но
Траян и Марк Аврелий не могли этого знать. Их ошибка в этом случае, как и во
многих других, в которых мы находим их законодательство несовершенным, были
теми ошибками, которые могли быть исправлены только веками.
Постоянное преследование — вот какая будущность открывалась перед
христианством. Думали, что был издан следующий специальный эдикт: Non licet
esse christianos, который служил основой всем преследованиям христиан. Это
возможно; но нет надобности в этом предположении. Христиане самим своим
существованием являлись нарушителями всех законов об ассоциациях. Они были
виновны в кощунстве, и оскорблении величества, в ночных сборищах. Они не могли
воздавать почестей императору, как следует верным подданным. А, между тем,
оскорбление величества наказывалось самыми жестокими мучениями; ни одно лицо,
обвиненное в этом преступлении, не избегало пыток. Кроме того была мрачная
категория flagitia nomini cohoerentta, преступлений, для которых не
требовалось доказательств; одно название христианин заставляло предполагать его
a priori и влекло за собой квалификацию hostis publicus. Против подобных
преступлений преследование велось по приказанию. Таким, в частности, было
обвинение в поджигательстве, постоянно возобновляемое воспоминанием
64 года, а также благодаря упорству, с каким Апокалипсисы возвращались к
идее окончательного всеобщего пожара. К этому присоединялось постоянное
подозрение в
секретных гнусностях, в ночных сборищах, в преступном увлечении женщин, молодых
девушек и детей. А оттуда всего один шаг, чтобы считать христиан способными на
все преступления и приписывать им все злодеяния. И толпа еще более чем
магистратура, делала этот шаг вперед ежедневно.
Если к этому прибавить ужасный произвол, предоставленный судьям, особенно в
выборе наказаний, то станет ясно, что и без исключительных законов, без
специального законодательства могла получиться та отчаянная картина, которую
нам представляет история римской империи в своих наилучших эпохах. Закон может
быть прилагаем с большей или меньшей строгостью, но он остается законом. Это
положение продолжалось, как медленная лихорадка, в течение всего второго
столетия, по временам то ожесточаясь, то утихая, вплоть до третьего века. Оно
закончилось ужасным припадком в первые годы четвертого века и окончательно
прекращено Миланским эдиктом в 313 году. Каждое возрождение римского духа
усиливало
преследование; императоры, которые в разное время в третьем веке пытались
поднять империю, были гонителями. Императоры терпимые, как Александр Север и
Филипп, не имели римской крови в своих жилах и жертвовали латинскими традициями
в пользу восточного космополитизма.
«Почитай божественность во всем и повсюду, согласно обычаям отечества и
принуждай других ее уважать. Ненавидь и наказывай всех приверженцев чуждых
обрядов, не только из
уважения к своим богам, но в особенности потому, что они вводят новые божества,
распространяют любовь к чуждым обычаям, что ведет к заговорам, к коалициям, к
ассоциациям, которые ни в каком случае не могут быть согласованы с монархией.
Не позволяй также никому заявлять об атеизме и заниматься магией. Гадание
необходимо, назначь официально гаруспициев и авгуров, к которым и будут
обращаться за советами; но не должно быть свободных магов, так как подобные
люди, смешивая правду с ложью, могут побудить граждан к бунту. To же надо
сказать и о многих, называющих себя философами; остерегайся их; нет зла,
которого они не могли бы сделать, как частным людям, так и народам».
Вот в каких выражениях государственный человек поколения, следовавшего за
Антонинами, резюмировал религиозную политику. Как и во времена более близкие к
нам, государство думало, что поступает весьма искусно, захватив в свои руки и
урегулировав суеверия. Муниципии пользовались тем же правом. Религия стала
полицейским делом. Система полного обезличения, при которой всякое движение
сдерживается, всякая индивидуальность считается опасной, всякая личность
изолирована, без какой бы то ни было религиозной связи с другими людьми,
превращенная в чисто официальное существо, помещенная в доведенную до ничтожных
размеров семью, и государство, слишком обширное, чтобы быть отечеством, чтобы
иметь общий дух, чтобы заставлять биться сердца, — вот идеал, о котором
мечтали. Все, что могло казаться способным поразить людей, вызвать волнение,
было преступно и наказывалось смертью или изгнанием. Таким образом, римская
империя убила античную жизнь, убила душу, убила науку, создала школу тяжелых и
ограниченных умов, узких политиков, которые под видом стремления прекратить
суеверие, в действительности, привели к торжеству теократии.
Сильное понижение интеллектуальности явилось следствием этих усилий
возвратиться к той вере, которой никто не имел. Некоторого рода банальность
окружила верования и уничтожила в них все серьезное. Бесчисленное количество
свободомыслящих первого века до Иисуса и первого века после него постепенно
уменьшалось и, наконец, исчезло. Свободный тон великой латинской литературы
теряется и заменяется тяжелой легковерностью. Наука гаснет день ото дня. Можно
сказать, что после Сенеки не было не одного ученого вполне рационалиста. Плиний
старший интересен, но не имеет никакой критики. Тацит, Плиний младший, Светоний
избегали высказываться о бессмыслии самых смешных фантазий. Плиний младший
верил в ребяческие рассказы о привидениях. Эпиктет хотел, чтобы придерживались
установленного культа. Даже такой фривольный писатель, как Апулей, считал своей
обязанностью принимать тон сурового консерватора, когда дело касалось богов.
Единственный человек около половины того века, по-видимому, не верил в
сверхъестественное, это был Лукиан. Научный дух, служащий отрицанием всего
сверхъестественного, был принадлежностью весьма немногих; суеверие охватило
всех, волновало разум. В то же время религия искажала философию, философия
искала видимого примирения со сверхъестественным. Глупая и пустая теософия,
спутанная с шарлатанством, была в моде. Апулей скоро стал называть философов
«жрецами всех богов». Александр Абонотик создал культ с фиглярскими причудами.
Религиозное шарлатанство, возвышенное ложной лакировкой философии, стало
модным. Аполлоний Тианский первый показал этому пример, несмотря на то, что
весьма трудно сказать, что такое был в действительности этот странный субъект.
Уже позднее пытались сделать из него религиозного ясновидящего, нечто вроде
полубога философии. Так быстро произошло понижение человеческого ума, что
презренный чудодей, который в эпоху Траяна имел успех только среди зевак малой
Азии, через сто лет, благодаря бесстыдным писателям, ухватившимся за него для
того, чтобы заинтересовать публику, ставшей вполне легкомысленной, сделался
лицом высшего порядка, воплощением божественности, которого осмеливались
сравнить с Иисусом.
Народному образованию императоры оказывали большее содействие, чем цезари и
даже Флавий, но вопрос был только о литературе; великая дисциплина ума, продукт
науки, мало
получала пользы от этих школ. В особенности покровительствовали философии
Антонин и Марк Аврелий. Но философия, высшая цель жизни, сущность всего
остального, не может быть преподаваема в государстве. Во всяком случае,
образование мало коснулось народа. Это было нечто абстрактное, возвышенное,
проходившее над головой, а так как с другой стороны храм не давал морального
поучения, которым впоследствии наделяла церковь, то низшие классы коснели в
невежестве. Но нельзя упрекать великих императоров в том, что они не имели
успеха в предпринятом ими деле спасения античной цивилизации. У них не хватило
времени. Однажды вечером после того, как он перенес атаку декламаторов,
обещавших ему бесконечную славу, если он обратит мир к философии, Марк Аврелий
записал в своей записной книжке следующее размышление, предназначенное только
для него самого: «Причина всего это поток, уносящий все. Как наивны политики,
воображающие, что возможно регулировать ход дел философскими правилами. Это еще
дети, у которых сопли из носа текут... Не надейся, что республика Платона
возможна; старайся внести небольшие улучшения и, если тебе удастся, то не
считай этого малым. Кто, действительно, может изменить внутреннее настроение
людей? А без изменения сердец и понятий, что может сделать все остальное? Ты
сделаешь только рабов и лицемеров... Дело философии простое и скромное, далекое
от чепухи этих чванливых». О, честный человек!
В результате, несмотря на все свои недостатки, общество второго столетия шло
вперед. Был упадок интеллектуальности, но нравы улучшились, что, по-видимому,
происходит в наше
время в высших классах французского общества. Стремление к благотворительности,
помощи бедным, отвращение к зрелищам развивались повсюду. Пока господствовал
этот прекрасный дух над судьбами империи, т. е. до смерти Марка Аврелия,
христианство, по-видимому, было задержано в своем движении. И, наоборот, оно
неотразимо двинулось вперед, когда в третьем веке были забыты прекрасные
правила Антонинов. Мы уже говорили, что, Нерва, Траян, Адриан, Антонин и Марк
Аврелий продолжали жизнь империи на сто лет; точно также можно сказать, что они
задержали торжество христианства на сто лет. Прогресс христианства в первом и
третьем веках шел гигантскими шагами, сравнительно с тем, как он двигался во
втором веке. Во втором веке, христианство имело сильного соперника в
практической философии, работавшей рационально над улучшением человеческого
общества. Начиная с Коммода, индивидуальный эгоизм, то, что называют эгоизмом
государства, не давал выхода идеальным стремлениям, кроме церкви. Церковь стала
тогда убежищем для всякой жизни сердца и души; вскоре после того и гражданская
и политическая жизнь сконцентрировались вокруг нее.
Глава XVIII. Эфес. — Старость Иоанна. —
Керинф. — Доцетизм
Облако сомнения, которое все прикрывает в этой истории, превращается в
темную тучу,
когда дело касается Эфеса и глухих страстей, клокотавших в нем. Мы уже признали
вероятным распространенное мнение, согласно которому апостол Иоанн пережил
большинство учеников Иисуса, спасшись от бурь Рима и Иудеи и укрывшись в Эфесе,
где он жил до глубокой старости, окруженный уважением всех церквей Азии.
Утверждение Иринея, очевидно, по Поликарпу, — что старый апостол жил до
правления Траяна, по нашему мнению, должно быть принято во внимание. Если эти
факты действительно верны, то они должны были иметь большие последствия.
Воспоминания о мучениях, которые Иоанн должен был вынести в Риме, делали его
еще при жизни мучеником и в этом отношении ставили его на один уровень с его
братом Иаковом. Сближая слова Иисуса о том, что поколение, слушавшее его, не
пройдет, пока он не появится в облаках, с преклонным возрастом, достигнутым
этим единственным из всех апостолов Иисуса, пришли к логическому заключению,
что этот ученик не умрет, т. е. увидит создание царства Божия, не пройдя
через смерть. Иоанн рассказывал или давал повод думать, что воскресший Иисус по
этому поводу имел загадочный разговор с Петром. Все это придавало Иоанну еще
при жизни Иисуса ореол чудесности. Легенда о нем стала создаваться раньше его смерти.
Старый апостол в свои последние годы, окруженный таинственностью,
пользовался большим уважением. Ему приписывали чудеса и даже воскресение
мертвых. Круг учеников группировался около него. Что происходило в этом
интимном кружке? Какие предания там вырабатывались? Что рассказывал старик? Не
смягчилась ли в его последние дни сильная антипатия, которую он всегда питал к
ученикам Павла? Не
старался ли он в своих рассказах, как не раз случалось и при жизни Иисуса,
приписывать себе первое место около своего учителя и ставить себя возможно
ближе к его сердцу? Не бродили ли уже некоторые из тех доктрин, которые
впоследствии выдавались за иоаннические, и не обсуждались ли они между
утомленным старым учителем и молодыми учениками, искавшими нового и старавшимися
убедить старика, что ему всегда принадлежали те идеи, которые они старались ему
внушить? Мы не знаем, и в этом заключается одна из главных трудностей
разъяснения происхождения христианства. На этот раз причиной является не только
неясность и преувеличенность легенд. По всей вероятности, в обманчивой церкви
Эфеса существовало предвзятое желание скрывать и подделывать с благочестивой
целью, что сильно затруднило дело критики в разборе этих спутанных
обстоятельств.
Филон, около того времени, когда еще был жив Иисус, развил некоторого рода
философию иудаизма, хотя и подготовленную идеями предыдущих мыслителей Израиля,
но только под его пером принявшую окончательную форму. Основанием этой
философии служит род абстрактной метафизики, вводящей в единое Божество разные
ипостаси, делающей из божественного Разума (по-гречески logos, по
сиро-халдейски memera) нечто вроде основы, отдельной от Вечного Отца.
Египет и Финикия были уже знакомы с подобной двойственностью того же Бога.
Впоследствии герметические книги основали теологию ипостаси и философию,
параллельную христианству. Иисус, по-видимому, оставался вне этих идей,
которые, если он знал их, не должны были представляться очаровательными его
поэтической фантазии и его любящему сердцу. Наоборот, его школа должна была
быть осаждаема ими: Аполлос не был чужд этой идеи; святой Павел в последнее
время своей жизни, очевидно, был озабочен этим. Апокалипсис дает своему
торжествующему Мессии таинственное имя Λογος
του θεου. Иудео-христианство, верное духу
ортодоксального иудаизма, допускало в свою среду эти идеи в очень ограниченном
количестве. Но когда все сирийские церкви стали все более и более отрываться от
иудаизма, прилив этого нового духа стал совершаться с неотразимой силой. Иисус,
который сначала был для большинства своих последователей не более, как пророк,
сын Бога, в котором наиболее экзальтированные видели Мессию или сына
человеческого, которого псевдо-Даниил изобразил, как блестящий центр будущих
явлений, превратился теперь в Логос, в Разум, в Слово Бога. Эфес, по-видимому,
тот пункт, в котором подобный взгляд на роль Иисуса получил начало и откуда он
распространился по всему христианскому миру.
В действительности, предание не одному апостолу Иоанну приписывает
торжественное объявление нового
догмата. Предание передает нам, что в среде, окружавшей Иоанна, эта доктрина
вызывала бури, колебала верования, вела к расколам и к отлучению от церкви.
Около того времени, о котором мы теперь говорим, стал появляться в Эфесе из
Александрии человек, игравший роль второго Аполлоса и который, по-видимому, на
расстоянии одного поколения имел с последним много связи. Мы говорим о Керинфе,
которого некоторые называли Меринфом. Неизвестно, что скрывалось за этим
различием имен. Как и Аполлос, Керинф по рождению был еврей, еще до знакомства
с христианством проникнутый иудео-александрийской философией. Он принял веру в
Иисуса совсем иным образом, нежели добродушные израильтяне, думавшие, что
царство Божие осуществилось в идиллии Назарета, или как благочестивые язычники,
привлекаемые таинственным инстинктом к этому смягченному иудаизму. К тому же,
его ум, по-видимому, был неустановившимся, и он охотно перескакивал из одной
крайности в другую. Его взгляды то приближаются ко взглядам эвионитов, то они
уклоняются к миленаризму; то витают в гностицизме и представляют сходство с
мыслями Филона. Творец мира и автор еврейского закона, Бог Израиля, не вечный
Бог; это был ангел, нечто вроде первичной творящей силы, подчиненной великому,
всемогущему Богу. Дух этого великого Бога был долго неизвестен миру и, наконец,
открыт только Иисусу. Евангелием Керинфа было Евангелие Евреев, несомненно
переведенное на греческий. Наиболее характерным в этом Евангелии является
рассказ о крещении Иисуса, согласно которому божественный дух, дух пророческий,
в момент крещения снизошел на Иисуса и низвел его в сан, которого он не имел
раньше. Керинф думал, что до своего крещения Иисус был обыкновенным человеком,
хотя и наиболее праведным и мудрым из людей; но при крещении дух всемогущего
Бога поселился в нем. Назначение Иисуса, сделавшегося, таким образом, Христом,
заключалось в том, чтобы открыть высшего Бога людям при помощи проповедей и
чудес; но он считал неверным взгляд, согласно которому Христос пострадал на
кресте; до начала Страстей, Христос, нечувствительный по природе, отделился от
человека Иисуса; этот последний один был распят, умер и воскрес. В других
случаях Керинф отрицал и самое воскресение, он утверждал, что Иисус воскреснет
вместе со всем миром в день суда.
Это та доктрина, которую мы уже встречали в зародыше во многих семьях
эвионитов, пропаганда
которых происходила в Азии, за Иорданом, — доктрина, которую через пятьдесят
лет Маркион и гностики с большей живостью опять восприняли; она представлялась
для христианской совести величайшим соблазном. Отделяя Иисуса от
фантастического существа, называемого Христом, она разделяла личность Иисуса,
отнимала всю индивидуальность у наилучшей части его общественной жизни, так
как, согласно ей, Христос находился в Иисусе, как нечто постороннее ему и
безличное. Понятно, что в особенности друзья Иисуса, которые его видели и
любили ребенком, молодым человеком, мучеником, трупом, были возмущены. Их
воспоминания представляли Иисуса одинаково приятным, одинаково божественным во
всякое время. Они хотели, чтобы его признали и почитали всего целиком.
По-видимому, Иоанн с негодованием отвергал доктрины Керинфа. Его верность и
любовь с детства к Иисусу только одни могли оправдывать те проявления
фанатизма, которые ему приписывают и которые, однако, не противоречили его
обычному характеру. Однажды, входя в Эфесе в бани и увидя Керинфа, он
воскликнул: «бежим, здание обрушится, так как Керинф, враг правды, здесь».
Подобная пламенная ненависть — продукт сектантства. Его любит сильно, ненавидит
сильно. Повсюду трудность согласить две роли Иисуса, совместить в существовании
одного человека мудреца и Христа порождало фантазии, аналогичные той, которая
вызывала такой сильный гнев у Иоанна. Доцетизм был, если можно так выразиться,
ересью того времени. Многие не допускали мысли, что Христос мог быть распят и
погребен. Одни, как Керинф, признавали некоторого рода перемежающийся характер
божественной роли Иисуса. Другие предполагали, что тело Иисуса было прозрачно,
что его материальная жизнь, особенно его страдания, были ничем иным, как
видением. Эти фантазии являлись результатом господствовавшего в ту эпоху
мнения, что материя есть падение, унижение духа, что материальное проявление
понижение идеи. Таким образом, евангельская история испарялась во что-то
неосязаемое. Интересно, что исламизм, оказывающийся некоторого рода арабским
продолжением иудео-христианства, воспринял эту идею об Иисусе. В особенности в
Иерусалиме мусульмане всегда абсолютно отрицали, что Иса умер на Голгофе; они
утверждали, что вместо него распяли кого-нибудь другого, на него похожего.
Предполагаемое место вознесения, Масличная гора, по мнению шейхов, настоящее
святое место Иерусалима, связанное с Иса; так как там Мессия, чуждый
страданиям, рожденный святым дыханием, а не телом, в последний раз явился в том
виде, который он себе выбрал. Как бы ни было, но Керинф в христианском предании
стал чем-то вроде Симона-волхва: почти сказочной личностью, типичным
представителем доцетического христианства, собратом эвионитов-иудео-христиан.
Как Симон-волхв был заклятым врагом Петра, так Керинфа представляют отчаянным
противником Павла. Его приравнивали к Эвиону; и скоро привыкли не отделять его
от последнего и, как Эвион явился абстрактным олицетворением иудео-христиан,
говорящих по-еврейски, так Керинф стал нарицательным словом для обозначения
иудео-христиан, говорящих по-гречески. Говорили так: «кто осмелился упрекать
Петра в том, что оп принял язычников в церковь? Кто осыпал Павла оскорблениями?
Кто вызвал мятеж против необрезанного Тита? Это Эвион, это Керинф». Взятые
буквально эти фразы означали бы нелепость, так как заставляли предполагать, что
Керинф играл роль в Иерусалиме в первые годы образования церкви. Так как Керинф
не оставил воспоминаний, то церковное предание во всем, что касается его,
прибавляло к одной неточности другую. Во всем этом сплетении противоречий есть
только одно слово правды. Керинф, действительно, был первым еретиком, автором
доктрины, превратившейся в сухую ветвь на великом дереве христианского учения.
Борясь с ним и отрицая его, христианская церковь сделала наибольший из всех
предыдущих шаг в сторону установления правоверия.
Благодаря этим раздорам и противоречиям, христианская теология развилась.
Личность Иисуса и странные комбинации человека с божеством, которые вынуждены
были придумывать, послужили основой для ее теории. Далее мы увидим гностицизм
зарождающимся, благодаря течению идей вполне подобных, и в свою очередь
стремящимся разделить единство Христа; но ортодоксальная церковь останется
твердой в отрицании подобных измышлений; существование христианства, основанного
на реальности личных действий Иисуса, зависело от этого.
Иоанн, несомненно, имел утешение при виде этих заблуждений, плодов духа,
чуждого галилейской традиции, в верности и преданности окружавших его учеников.
На первом плане был молодой азиат, по имени Поликарп, имевший всего около
тридцати лет в период крайней старости Иоанна и который, по-видимому, уверовал
в Христа еще в детстве. Крайнее уважение, с которым он относился к апостолу,
побуждало его смотреть на Иоанна любопытными глазами юноши, в которых все
увеличивается и
преображается. Живой образ старца запечатлелся в его уме. И всю свою жизнь он
говорил о нем, как о небесном видении. Главная его деятельность была в Смирне,
и нет ничего невероятного в том, что Иоанн послал его туда стать во главе уже
древней церкви, как то утверждает Ириней.
Благодаря Поликарпу, воспоминания об Иоанне в Азии, a оттуда в Лионе и
Галлии стали живой
традицией. Во всем, что говорил Поликарп о Господе, о его доктрине, о его
чудесах, он ссылается на личных свидетелей жизни Иисуса. Он обыкновенно
выражался так: «это я слышал от апостолов». «Я, которого наставляли апостолы и
который жил вместе со многими, видевшими Христа... и т. д. Способ
Поликарпа выражаться давал повод думать, что он, кроме Иоанна, знал еще других
апостолов, например, святого Филиппа. Но гораздо вероятнее, что здесь некоторая
гипербола. Выражение «апостолы», несомненно, означало Иоанна, которого к тому
же могли сопровождать некоторые галилейские ученики, нам неизвестные. Можно
также понимать под этим, если угодно, пресвитера Иоанна и Аристиона, которые,
согласно некоторым текстам, были непосредственными учениками Господа. Что же
касается Кая, Диотрефа, Димитрия и благочестивой Кирии, о которых послание Presbyteros’a
говорит, как о членах кружка эфесян, то было бы рискованно очень много
останавливаться на этих именах и обсуждать существа, которые, как говорит
Талмуд, «никогда не были созданы», а обязаны были своим существованием только
искусству подделывателя или, как Кирия, недоразумениям.
Ничего нет более сомнительного, как все то, что относится к этому
одноименному с апостолом Presbyteros Ioannes, бывшему приближенным
Иоанна в его последние годы, который,
согласно преданиям, наследовал ему в управлении церковью Эфеса. Его
существование, однако, представляется вероятным. Титул пресвитер могло быть
название, которым его отличали от апостола. После смерти апостола его еще долго
могли называть только пресвитер, опуская его собственное имя. Аристион,
которого весьма древние сведения помещают рядом с пресвитером, как весьма
авторитетного хранителя преданий и которого смирнская церковь также приписывает
себе, тоже загадка. Все, что можно о нем сказать, это то, что в Эфесе около
конца первого века была группа лиц, выдававших себя за последних
непосредственных свидетелей жизни Иисуса. Папий их знал или, по крайней мере,
близко с ними соприкасался и собрал их предания.
Далее мы увидим, что Евангелие совершенно в новой редакции вышло из этого
маленького кружка, который, по-видимому, приобрел доверие старого апостола и
считал себя вправе говорить от его имени. He постарался ли кто-нибудь из
учеников, окружавших и как бы овладевших старостью Иоанна, использовать богатую
сокровищницу, бывшую в его распоряжении? Так могли думать; мы сами одно время к
этому склонялись, но теперь мы считаем более вероятным, что ни одна из глав
Евангелия, носящего имя Иоанна, не была написана ни им самим и никем из его
учеников при его жизни. Но мы продолжаем верить, что Иоанн имел свою особенную
манеру рассказывать жизнь Иисуса, вполне несходную с первоначальными рассказами
в Ватанее, в некоторых отношениях более совершенную и в особенности в том, что
касается жизни Иисуса в Иерусалиме, представлявшую большее развитие. Мы думаем,
что апостол Иоанн, который имел характер довольно себялюбивый и еще при жизни
Иисуса вместе со своим братом рассчитывавший на первое время в царстве Божием,
приписывал себе то же место и в своих рассказах. Если он читал Евангелие Марка
и Луки, что весьма вероятно, он должен был убедиться, что там недостаточно говорят
о нем и приписываемая ему этими евангелистами роль не соответствует той,
которую он играл в действительности. Ему хотелось, чтобы знали о том, что он
был особо любимый ученик Иисуса и играл первую роль в евангельской драме. При
своем старческом тщеславии он приписывал себе главное значение. Его длинные
истории часто имели целью желание изобразить себя любимым учеником Иисуса,
который только один в торжественные минуты склонял свою голову к его сердцу,
которому Иисус доверил свою мать и что во многих случаях, в которых первую роль
приписывают Петру, она в действительности принадлежала ему, Иоанну. Его
глубокая старость давала повод к разным размышлениям, его долголетие принимали
за небесное знамение. Так как окружавшая его среда не отличалась безупречной добросовестностью
и, может быть, была не лишена некоторой доли шарлатанства, то можно себе
представить, какие странные измышления бродили в этом гнезде благочестивых
интриг вокруг старца, уже ослабевшего умом и находившегося в полном
распоряжении тех, которые его окружали.
Иоанн оставался до конца вполне евреем, соблюдая закон во всей его
строгости; сомнительно, чтобы Иоанн понимал начавшие уже распространяться
трансцендентальные теории о тождестве Ииcyса и Логоса; но, как всегда случается
в школах, где учитель уже слишком стар, школа шла своей дорогой, прикрываясь
только его именем. По-видимому, Иоанн был предназначен для того, чтобы им
пользовались авторы поддельной литературы. Мы уже видели все, что
представляется сомнительным в происхождении Апокалипсиса; почти столько же
можно привести одинаковой серьезности возражений, как против подлинности этой
книги, так и против гипотезы, объявляющей ее апокрифом. Что можно сказать о
другом странном явлении, о том, что целая ветвь церковных преданий,
александрийская школа, не только отрицала, что автор Апокалипсиса Иоанн, но
даже приписывала это произведение его противнику Керинфу? Мы скоро увидим, что
подобные же экивоки окружают и другую серию иоаннических писаний, появившихся
немного позже. Ясно одно, Иоанн не мог быть автором обеих приписываемых ему
серий трудов. Может быть, ни одна из серий не принадлежит ему, но, наверное,
обе вместе не могут принадлежать ему.
Произошло сильное волнение в день, когда умер апостол, который в течение
многих лет
представлял собой всю христианскую традицию и непосредственную связь с Иисусом
и зачатками христианства. Все столпы церкви исчезли. Тот, которому, согласно
распространенному мнению, Иисус обещал бессмертие до своего возвращения, сошел
в могилу. Это было тяжелое разочарование. Приходилось искать оправдания
пророчеству Иисуса и прибегать к разным изощрениям. Неправда, говорили друзья
Иоанна, что Иисус объявил своему любимому апостолу, что он будет жить до его
возвращения. Он сказал апостолу только: «если я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду, что тебе до того?». Туманная фраза, дававшая повод к разным толкованиям
и позволявшая думать, что Иоанн, подобно Еноху, Илье и Ездре, будет жить до
возвращения Христа. Во всяком случае это было торжественное событие. Никто уже
больше не мог сказать: «я его видел». Иисус и первые годы церкви Иерусалима
терялись в сумрачной дали. Главное значение перешло к тем, которые знали
апостолов, к Марку и Луке, ученикам Петра и Павла, к дочерям Филиппа,
продолжательницам его чудесных даров. Поликарп всю свою жизнь ссылавшийся на
свою связь с Иоанном. Аристион и Presbyteros Johannes, жившие теми же
воспоминаниями, те, кто имели возможность видеть Петра, Андрея, Фому,
приобретали важное значение в глазах людей, желавших знать правду о появлении
Христа. Книгам, как мы уже говорили двадцать раз, придавалось мало значения.
Устное предание было все. Передача учения и передача апостольских прав
представлялись как бы связанными с некоторого рода уполномочиванием,
посвящением в духовный сан, освящением, первоисточником чего был апостольский
состав. Вскоре каждая церковь хотела доказать, что в ней существует непрерывная
цепь людей, следовавших один за другим со времен апостольских. Церковное
старшинство, представлявшееся чем-то вроде непосредственной передачи духовной власти,
не могло иметь перерывов. Таким образом, идея церковной иерархии сделала
быстрые успехи. Каждый день епископат укреплялся.
Могила Иоанна девяносто лет спустя еще показывалась в Эфесе. Возможно, что
этот почитаемый памятник помещался в базилике, ставшей знаменитой и которая
находилась на том месте, где теперь расположена современная цитадель
Aia-Solouk. Рядом с могилой апостола находилась в третьем веке другая
могила, которую приписывали лицу, называемому Иоанном, что должно было вести
часто к путаницам. Мы об этом будем еще говорить.
Глава XIX. Лука, первый историк христианства
С Иоанном исчез последний человек удивительного поколения, воображавшего,
что оно видело Бога на земле и надеявшегося избежать смерти. Около того же
времени появилась очаровательная книга, которая в тумане легенды сохранила нам
воспоминание об этом золотом веке. Лука, автор третьего Евангелия, предпринял
этот труд, вполне подходящий для его изящной души, для его чистого и мягкого
таланта. Предисловие, находящееся во главе третьего Евангелия и Деяний, с
первого взгляда, по-видимому, указывает на предположение Луки составить свой
труд в двух книгах; в одной рассказать жизнь Иисуса, в другой историю
апостолов, насколько он ее знал. Однако, серьезные данные дают повод думать,
что составление этих обеих книг было разделено некоторым промежутком времени.
Предисловие к Евангелию не предполагает обязательным существование мысли
составить Деяния. Возможно, что Лука прибавил вторую книгу к первому своему
произведению только через несколько лет, по просьбе лиц, среди которых его
первая книга имела такой большой успех.
К этому предположению приводит отношение, принятое автором с первых же строк
Деяний, к вознесению Иисуса. В других Евангелиях появление воскресшего Иисуса
постепенно исчезает, без определенного заключения. Фантазия требовала
эффектного конца загробной земной жизни Иисуса, ясного выхода из положения,
которое не могло продолжаться бесконечно. Этот дополнительный миф создавался
медленно и тяжело. Автор Апокалипсиса в 69 году, несомненно, верил в
вознесение; согласно ему, Иисус был вознесен на небо к престолу Бога. В той же
книге два пророка, скопированные с Иисуса, убитые, как он, воскресают через три
с половиной дня и после своего воскресения возносятся на облака, в виду своих врагов.
Лука в Евангелии оставляет этот вопрос открытым, но в самом начале Деяний он
рассказывает, при желательной для него сценической обстановке, как произошло
событие, без которого жизнь Иисуса не была бы увенчана. Он даже знает, как
долго продолжалась загробная жизнь Иисуса. Она продолжалась сорок дней,
замечательное совпадение с Апокалипсисом Ездры. Лука мог быть в Риме одним из
первых читателей этого писания, которое, вероятно произвело на него сильное
впечатление.
Дух, которым проникнуты Деяния, тот же, что и в третьем Евангелии: мягкость,
терпимость, примирение, сочувствие униженным, отвращение к высокомерным. Автор
именно тот человек, который написал: «мир людям добрых желаний!» Мы уже
показали в другом месте, как, благодаря своим прекрасным намерениям, он искажал
историческую точность и как его книга является первым произведением духа
римской церкви, равнодушного к вещественной правде и во всем руководящегося
официальными стремлениями. Лука — создатель той вечной фикции, которую называют
церковной историей, с ее безвкусицей, с ее привычкой сглаживать все
угловатости, с ее глупыми, ханжескими оборотами. Догма, a priori, церкви,
всегда разумной, всегда умеренной, служит ему основанием. Главная цель — это
желание показать, что ученики Павла не ученики какого-нибудь выскочки, а такого
же апостола, как и другие, который был в полном согласии с другими. Все
остальное для него неважно. Все происходит, как в идиллии. Петр придерживается
взглядов Павла, Павел придерживается взглядов Петра. Вдохновленное собрание видело
весь апостольский состав, объединенный одной мыслью. Первый язычник окрещен
Петром; с другой стороны. Павел подчиняется законным предписаниям и исполняет
их публично в Иерусалиме. Этот благоразумный рассказчик избегает всякого
прямого выражения определенных мнений. Евреев он называет лжесвидетелями, так
как они передают подлинное слово Иисуса и утверждают, что создатель
христианства имел намерение внести изменения в законы Моисея. Сообразно
обстоятельствам, христианство то оказывалось не более, как иудаизмом, то чем-то
совершенно другим. Когда еврей преклонялся перед Иисусом, его привилегии
открыто признавались. Тогда Лука не жалел благосклонных слов для этих отцов,
для этих старших в семье, которых было желательно примирить с младшими. Но это
не мешало ему с благосклонностью указывать на обращенных язычников и
противопоставлять их упорным евреям, необрезанным в сердце. Видно, что в
глубине души он в пользу первых. Он предпочитает язычников, христиан по духу;
центурионов, любящих евреев; плебеев, признающих свою низость; возвращение к
Богу, вера в Иисуса — вот что уравнивает все различия, погашает все
соперничества. Это доктрина Павла без той суровости, которая наполнила жизнь
апостола горечью и разочарованием.
С точки зрения исторической ценности, Деяния могут быть разделены на две
совершенно различные части, соответственно тому, что рассказывает Лука о жизни
Павла, которого он лично знал и согласно которому он передает нам взгляд своего
времени на первые годы церкви Иерусалима. Эти первые годы были, как отдаленный
мираж, полны иллюзии. Лука был в очень неудобном положении, чтобы понять этот
исчезнувший мир. Bсe, что произошло в первые годы после смерти Иисуса,
рассматривалось, как символическое и таинственное. Сквозь этот обманчивый туман
все казалось священным. Так создались, кроме мифа о вознесении Иисуса, рассказ
о сошествии Святого Духа, отнесенного к празднику Троицы, преувеличенные идеи
об общности имущества примитивной церкви, ужасная легенда об Антонии и Сапфире,
фантазии об иерархическом значении собрания Двенадцати, бессмыслицы о
глоссолалиях, которые преобразили в общественное чудо, идейное явление внутри
церкви. Что касается учреждения Семи, мученичества Стефана, обращения Корнилия,
собора в Иерусалиме и его постановлений, которые, предполагалось, были сделаны
по общему согласию, — все это продукт той же тенденции. Нам очень трудно
различить в этих страницах
правду от легенды и даже от мифов. Как желание найти евангельскую основу всем
догмам и всем учреждениям, ежедневно появлявшимся, наполнило жизнь Иисуса
фантастическими анекдотами, как и желание найти для тех же учреждений и для тех
же догматов апостолический базис наполнило историю первых годов церкви
Иерусалима массой рассказов, составленных a priori. Писать историю ad
narrandum non ad probandum есть дело бескорыстной любознательности, чему не
было примеров в эпохи, создававшие веру.
Мы имели слишком много случаев доказать на деталях принципы, которыми
руководствовался Лука в своих рассказах, чтобы опять возвращаться к ним здесь.
Объединение двух противоположных партий, разделявших церковь Иисуса, было его
главной целью. Рим был местом, в котором совершалось это великое дело. Уже
Климент его начал. По всей вероятности, Климент не видел ни Петра, ни Павла.
Его чувство практичности показало ему, что спасение христианской церкви
требовало примирения
двух ее основателей. Он ли внушил ту же мысль святому Луке, с которым он,
по-видимому, был в сношениях, или эти два благочестивых человека внезапно
попали на один и тот же путь, по которому нужно было направить христианское
мнение? Мы не знаем этого, не имея документов. Достоверно только то, что это
римское дело. Рим имел две церкви: одну, происходящую от Петра, другую,
происходящую от Павла. Многочисленные лица, уверовавшие в Иисуса, одни — при
помощи школы Петра, другие — при помощи школы Павла, готовы были воскликнуть:
«как! разве есть два Христа?» Нужно было им ответить: «нет, Петр и Павел вполне
между собою согласны, христианство одного — христианство другого». Может быть,
легкий оттенок по этому поводу был внесен в евангельскую легенду о чудесном
улове рыбы. Согласно Луке, сеть Петра была не в состоянии захватить всю рыбу, и
Петр был вынужден дать знать своим товарищам, чтобы они прибыли к нему на
помощь; вторая лодка (Павел и его последователи) подошла, наполнилась рыбой,
как и первая, и улов царства Божия был изобильный.
Происходило нечто подобное тому, что происходило во время Реставрации в
партии, взявшей на себя труд восстановить культ французской революции. Между
героями революции борьба была горячая и ожесточенная; ненавидели друг друга до
смерти. Но двадцать пять лет спустя от всего этого получился великий средний
результат. Забыли, что жирондисты, Дантон и Робеспьер рубили друг другу головы,
и, кроме нескольких редких исключений, уже не было приверженцев жирондистов,
Дантона и Робеспьера, а все оказались приверженцами того, что считалось их
общим делом, т. е. революции. Поместили в том же Пантеоне, как братьев,
людей, присуждавших друг друга к смертной казни. В больших исторических движениях
бывает момент, когда люди, объединившиеся в виду общего дела, разделяются и
убивают друг друга, ради того или другого оттенка, потом наступает момент
примирения, когда стараются доказать, что эти враги по внешности были в
согласии и работали для той же цели. Через некоторое время из всех этих
раздоров получается единая доктрина, и полное согласие господствует между
последователями людей, проклинавших друг друга. Другой вполне римской чертой у
Луки, сближающей его с Климентом, является уважение к императорскому авторитету
и предосторожности, которые он принимает, чтобы не задеть этот авторитет. У
этих обоих писателей нет той мрачной ненависти к Риму, которая характеризует
авторов Апокалипсисов и сивиллийских поэм. Автор Деяний избегает всего,
могущего представить римлян, как врагов христианства. Наоборот, он старается
показать, как, во многих случаях, они старались защищать св. Павла и
христиан от евреев. Ни одного обидного слова для гражданских властей. Он
останавливает свой рассказ на прибытии Павла в Рим, возможно, для того, чтобы
не быть вынужденным описывать ужасы Нерона. Лука не признает, чтобы
христианство когда-нибудь было законно скомпрометировано. Если бы Павел не
апеллировал к императору, «его отпустили бы оправданным». Задняя юридическая
мысль, вполне подходящая к веку Траяна, занимает его: он хочет создать
прецеденты, показать, что нельзя преследовать тех, которых римские трибуналы
столько раз оправдывали. Дурные поступки не отталкивают его. Никогда не
выказывалось большего терпения, большего оптимизма. Стремление к перенесению
гонений, радость при получении оскорблений во имя Иисуса наполняли душу Луки и
сделали из его книги по преимуществу руководство для христианских миссионеров.
Полное единство книги не позволяет нам утверждать, составил ли ее Лука, имея
в своем распоряжении более древние документы, или он первый самостоятельно
написал историю апостолов по устным преданиям. Было много Деяний апостолов, как
было много Евангелий. Но в то время, как несколько Евангелий включено в канон,
только одна книга Деяний попала туда. Возможно, что книга «Проповеди Петра»,
имевшая целью представить Иерусалим источником всего христианства и Петра
центром иерусалимского христианства, более древняя, чем Деяния, но, несомненно,
Лука ее не знал. Также напрасно предполагали, что Лука переделал и дополнил, в
духе примирения иудео-христианства с Павлом, более древнее писание,
составленное для придания большей славы иерусалимской церкви и Двенадцати.
Намерение приравнять Павла к Двенадцати и в особенности сблизить Петра с Павлом
проявляется у нашего автора. Но, по-видимому, в своем рассказе он следует давно
установившемуся устному толкованию. Главы римской церкви, вероятно, имели свой
освященный способ рассказывать апостольскую историю. Лука придерживался его,
прибавив довольно подробную биографию Павла, конец которой он передает по
личным воспоминаниям. Как все христианские историки, он позволяет себе
прибегать к невинной риторике. Свое эллинистическое воспитание он, должно быть,
получил в Риме, и у него могла развиться склонность к ораторским сочинениям по
греческой манере.
Книга Деяний, как и третье Евангелие, написанные для христианского общества
в Риме, долгое
время оставались известными только ему. Пока развитие церкви шло согласно
непосредственной традиции и внутренним потребностям, этой книге придавали
второстепенное значение; но когда главным аргументом в спорах о церковной
организации являлась ссылка на первоначальную церковь, как на идеал, когда
Деяния приобрели большой авторитет. В них рассказывается о вознесении, о
Троице, о Трапезе, о чудесах апостольского слова, о соборе в Иерусалиме.
Предвзятость Луки навязалась истории, и, до проницательных замечаний
современной критики, наиболее плодотворных тридцать лет в церковных летописей
были известны только благодаря ему. Материальная правда пострадала, так как ее
Лука мало знал и мало о ней заботился; но почти так же, как и Евангелие, Деяния
придали определенный вид будущему. Способ, каким рассказаны вещи, имеет большее
значение в мирском развитии, чем то, как эти вещи происходили на самом деле.
Те, которые создали легенду об Иисусе, имели почти равное с ним значение в деле
создания христианства; тот, кто составил легенду о первоначальной церкви, имел
огромное значение в деле создания духовного общества, которое в течение
стольких веков служило человечеству местом отдыха душ. Multitudinis
credertium crat cor unum et anima una. Когда написали нечто подобное, то
воткнули колючку в сердце человеческое, которому она не дает заснуть, пока не
откроют того, что видели во сне и не коснутся того, о чем мечтали.
Глава XX. Секты Сирии. — Елказай
В то время, как западные церкви, более или менее подчиняясь римскому духу,
быстро подвигались к ортодоксальному католицизму и стремились создать себе
центральное управление, уничтожая разнообразие сект, церкви эвионитов в Сирии
все более и более раздроблялись и путались во всевозможного рода заблуждениях.
Секта — не церковь; наоборот, во многих случаях секта подрывает церковь и
разрушает ее. Настоящий Протей, иудео-христианизм, бросался из стороны в
сторону. Несмотря на то, что сирийские общины пользовались привилегией
присутствия в их среде членов семьи Иисуса и несмотря на то, что они имели
более тесную связь с преданием, нежели церкви Азии, Греции и Рима, эти
сирийские общины, предоставленные сами себе, несомненно, в течение двух-трех
сот лет затерялись бы в грезах. С одной стороны, исключительное употребление
сирийского языка лишало их плодотворного соприкосновения с произведениями
греческого гения; с другой, полные опасности восточные влияния действовали на
них и грозили им быстрым развращением. Отсутствие у них рассудочности придавало
их на жертву соблазна, теософических безумий вавилонского, египетского и
персидского происхождения, которые, приблизительно через сорок лет, создали в
христианстве серьезную болезнь гностицизма, которую нельзя сравнить ни с чем
иным, как с ужасным крупом, от которого ребенок избавляется только чудом.
Атмосфера, в которой жили эвионитские церкви Сирии за Иорданом, была
чрезвычайно напряженная. Эти места изобиловали еврейскими сектами, следовавшими
направлению, совершенно противоположному
направлению правоверных ученых. С разрушения Иерусалима иудаизм, лишенный
пророческого возбуждения, имел два полюса религиозной деятельности: казуистику,
которую представлял собою Талмуд, и мистические грезы зарождавшейся Каббалы.
Лидда и Явнея были центрами выработки Талмуда. Заиорданские страны служили
колыбелью Каббалы. Ессеи не умерли; под именем esseens, ossenes, osseens
они мало чем отличались от назарян или эвионитов и с еще большим пылом
продолжали придерживаться своего особого аскетизма и воздержания, так как
разрушение храма уничтожило ритуализм Торы. Галилеяне Иуды Голонита
существовали, по-видимому, как отдельная церковь. Неизвестно, кто такие были
масботане и, еще менее, кто такие были генисты, меристы и другие неизвестные
еретики.
Самаряне, с своей стороны, также разделялись на массу сект, имевших более
или менее связь с Симоном из Гиттона. Клеобий, Менандр, себутеяне, горофеяне
уже гностики; каббалистический гностицизм переполняет их. Отсутствие какого бы
то ни было авторитета допускает еще более важные смешения. Самарянские секты
размножаются около церкви, проникают иногда в ее глубь или стараются проникнуть
туда силою. К этому времени можно отнести книгу Grande Ехроsition,
приписанную Симону Гиттонскому. Менандр Кафаретский наследовал все претензии
Симона и воображал, как и его учитель, что обладает высшей добродетелью,
скрытой от других людей. Между Богом и созданием он помещал бесконечный мир
ангелов, над которыми имеет силу магия. Он претендовал, что знал все секреты
этой магии. Он крестил от своего собственного имени. Крещение давало право на
воскресение и бессмертие. Более всего последователей Менандр имел в Антиохии.
Его последователи старались присвоить себе имя христиан, но христиане
высокомерно их отвергали и называли их менандрианами. To же самое было и по
отношению к другим симонианским сектам, называемым евхитами, обожателей эонов,
против которых высказывались самые тяжелые обвинения.
Другой самарянин, Досифей или Досфай, разыгрывал роль некоторого рода
Христа, сына Божия, и старался выдать себя за великого пророка, равного Моисею,
который обещан во Второзаконии (XVIII, 15) и прибытие которого в это
лихорадочное время постоянно ожидали. Ессеянство, со своим стремлением
увеличивать число ангелов, было основой всех этих заблуждений; сам Мессия был
такой же ангел, как и другие, и Иисус в церквях, подпавших под это влияние,
потерял впоследствии свой прекрасный титул сына Бога и стал только великим
ангелом, эоном первого ранга.
Существование тесной связи между христианами и еврейской массой, отсутствие
руководящего
начала у заиорданских церквей, приводило к тому, что всякая из этих сект имела
свой отклик в церкви Иисуса. Мы не можем хорошенько понять, что хочет сказать
Гегезипп, когда он отмечает конец полной девственности иерусалимской церкви
около того времени, о котором мы говорим, и приписывает все последующее зло
некоему Thebuthis, который, досадуя, что не был назначен епископом, внес
в церковь заразу, заимствованную у семи еврейских сект. Правда только то, что в
некоторых затерянных округах Востока происходили странные смешения. Иногда
мания к несообразным смешениям не ограничивалась иудаизмом; религии верхней
Азии также вносили элементы в котел, в котором самые противоречивые ингридиенты
совместно переваривались. Крещение было первоначально обрядом религии
местностей нижнего Евфрата; вместе с тем баптизм был характерной чертой
еврейских сект, которые хотели освободиться от иерусалимского храма и его
священников. Последователи Иоанна Крестителя еще существовали. Почти все ессеи
и эвиониты придерживались омовения. После разрушения храма баптизм стал
развиваться с новыми силами. Сектанты ежедневно, по всякому поводу, погружались
в воду. Около 80 года мы уже слышали отклики этих сект. При Траяне
успех крещения удваивается. Этим увеличивающимся успехом крещение обязано
влиянию некоего Елказая, который, как можно предполагать, во многом подражал
Иоанну Крестителю и Иисусу.
По-видимому, Елказай был ессеем из местности, расположенной за Иорданом.
Возможно, что он жил в Вавилонии, откуда, по его рассказам, он и привез книгу
своих откровений. Он поднял свое пророческое знамя около 3-го года царствования
Траяна, проповедуя покаяние и новое крещение, более действительное, чем все
предыдущие, способное смыть все самые ужасные грехи. В подтверждение своей
миссии он показывал своеобразный Апокалипсис, написанный, вероятно,
по-сирийски, и который он старался окружить таинственностью, уверяя, что этот
Апокалипсис спустился с неба в Сера, столице сказочной земли Серес, за Парсией.
В этом Апокалипсисе гигантский ангел в тридцать две мили высоты, представляющий
сына Божия, является в роли вещателя; рядом с ним другой, таких же размеров,
ангел-женщина, Святой Дух, виднелся, как статуя, в облаках между двумя горами.
Елказай, сделавшийся хранителем этой книги, передал ее некоему Sobiai.
Несколько отрывков из этой книги нам известны. В ней нет ничего сколько-нибудь
возвышающегося над тоном заурядного мистификатора, желающего обогатиться посредством
измышленных приемов искупления грехов и смешных лицемерных выдумок. Магические
формулы, составленные из сирийских фраз, которые читались обратно, ребяческие
предписания для счастливых и несчастных дней, безумная медицина заклинания
бесов и ворожбы, рецепты против демонов и собак, астрологические предсказания,
— вот евангелие Елказая. Как все авторы Апокалипсисов, он предвещал гибель
римской империи, предсказывая ее конец в шестом году правления Траяна.
Был ли Елказай действительно христианином? По временам можно в этом
сомневаться. Он часто говорил о Мессии, но двусмысленно относился к Иисусу.
Можно предполагать, что идя по следам Симона Гиттонского, Елказай знал
христианство и копировал его. Он, как впоследствии Магомет, признал Иисуса
божественной личностью. Эвиониты были единственными христианами, с которыми он
имел сношения, так как его христология вполне эвионитская. Он, подобно
последним, сохранял Закон, обрезание, субботу, отвергал древних пророков,
ненавидел Павла, воздерживался от мяса, во время молитвы обращался к
Иерусалиму. Его последователи, по-видимому, приближались к буддизму, они
признавали много Христов, переходящих одни в других посредством трансмиграции,
или вернее одного Христа, воплощающегося и появляющегося миру через некоторые промежутки
времени. Иисус был одним из этих появлении, а Адам был первым. Эти грезы
напоминают воплощения Вишну и последовательные жизни Кришны.
В этом чувствуется грубый синкретизм сектанта, очень похожего на Магомета,
путающего и
смешивающего хладнокровно, по капризу, данные, которые он берет направо и
налево. Весьма заметно влияние персидского натурализма и вавилонской Каббалы.
Елказаиты обожали воду, как источник жизни, и ненавидели огонь. Их крещение (во
имя великого всевышнего Бога и его сына, великого царя) смывало все грехи и
исцеляло все болезни, когда к этому присоединяли призыв семи мистических
свидетелей: неба, воды, святых духов, ангелов, молитвы, масса, соли и земли. От
ессеев Елказай заимствовал воздержание и отвращение к кровавым жертвоприношениям.
Привилегия предсказывать будущее и излечивать болезни посредством магических
приемов также считалась принадлежностью ессеев. Но мораль Елказая весьма мало
походила на мораль этих добрых монахов. Он порицал девственность и дозволял, во
избежание преследований, представляться идолопоклонниками и даже на словах
отрицать свою веру.
Эти доктрины более или менее были приняты всеми эвионитскими сектами.
Заметен отпечаток этого и на псевдо-климентинских рассказах, произведениях
римских эвионитов, и туманные отклики в письме, ложно приписываемом Иоанну.
Книга Елказая стала известна греческим и римским церквам только в третьем веке
и не имела там никакого успеха. Наоборот, она была принята с энтузиазмом
ессеянами, назерянами и эвионитами Востока. Вся заиорданская область, Пера,
Моаб, Итурия, страна набатейская, берега Мертвого моря, около Арнона, были
переполнены этими сектантами. Позже их называли самсеянами, смысл этого имени
темен. Около четвертого века, фанатизм этой секты достиг таких пределов, что
люди давали убивать себя за род Елказая. Его семья продолжала еще существовать
и практиковать свой грубый шарлатанизм. Две женщины, Марфа и Марфана, считавшие
себя его потомками, были почти обожаемы; прах от их ног и их плевки считались
реликвиями. В Аравии елказаиты, как эвиониты и иудео-христиане вообще,
существовали до Ислама и слились с ним. Теория Магомета о Христе мало чем
отличается
от теории о нем Елказая. Идея Кіblа, или направление для совершения
молитвы, может быть, ведет свое начало от этих заиорданских сектантов. Нельзя
не настаивать достаточно на том, что до великого раскола двух церквей,
греческой и латинской, одинаково правоверных, одинаково кафолических, был еще
раскол сирийский, который, если можно так выразиться, выключил из христианства
или, правильнее выражаясь, оставил на своих границах целый мир
иудео-христианских эвионитских сект совершенно не кафолических (ессеев, оссеян,
самсеян, жесеян и елказаитов), от которых Ислам узнал христианство и для
которых Ислам был возмездием. Одним из как бы живых доказательств этого
великого факта может служить, то, что мусульмане всегда называли христиан
назарянами. Другим доказательством может служить то, что христианством Магомета
был эвионизм или назарянство и тот упорный доцетизм, который побуждал мусульман
всех времен утверждать, что Иисус лично никогда не был распят, а вместо него
пострадал призрак. Это вполне похоже на утверждение Керинфа или кого-нибудь из
гностиков, так энергично опровергаемых Иринеем.
По-сирийски эти разнообразные секты носили название sabiin, вполне
равнозначащее слову
«крестители». От этого произошло слово sabiens, которое продолжает и теперь
служить названием сект мендаитов, назарян, или христиан святого Иоанна,
продолжающих влачить свое бедное существовавие в болотистых местах Wasith
и Howeyza, недалеко от слияния рек Тигра и Евфрата. В VІІ столетии
Магомет относился к ним с особенной благосклонностью. В X веке арабские
полиграфы называли их el-mogtasila, «те, которые купаются». Первые из
европейцев, ознакомившись с ними, приняли их за учеников Иоанна Крестителя,
которые покинули берега Иордана ранее, чем могли слышать проповедь Иисуса.
Нельзя сомневаться в тожестве этих сектантов с елказаитами, когда они называют
своего основателя El-hasih, и в особенности, когда изучаешь их доктрины,
являющиеся некоторого рода иудео-вавилонским гностицизмом, многими своими
сторонами сходным с гностицизмом Елказая. Употребление омовений, любовь к
астрологии, привычка приписывать книги Адаму, как первому получившему
откровение, роли, приписываемые ангелам, некоторого рода натурализм и вера в
магическое свойство элементов, отвращение к безбрачию, — общие черты у
сектантов Бассоры и у других елказаитов.
Как Елказай, мендаиты считали воду основой жизни, огонь основой мрака и
разрушения. Несмотря на то, что они жили далеко от Иордана, эта река для них по
преимуществу река крещения. Их антипатия к Иерусалиму и иудаизму,
недоброжелательство к Иисусу и христианству, их организация епископов,
священников и верующих вполне напоминает христианскую организацию; их литургия
скопирована с литургии одной из церквей и заканчивается настоящим таинством. Их
настоящие книги не представляются древними, но, по-видимому, они заменили более
древние. В том числе, может быть,
были Апокалипсис и Покаяние Адама, странная книга о небесных литургиях каждого
часа дня и ночи и о совершение таинств, с ними связанных.
Произошел ли мендаизм из одного источника, ессеизма и еврейского баптизма?
Конечно, нет; по многим данным его можно считать одной из ветвей вавилонской
религии, тесно смешавшейся с одной из сект иудео-христианства, которая сама
была уже
проникнута вавилонскими идеями. Необузданный синкретизм, бывший всегда законом
восточных сект, делает невозможным точный анализ подобных уродливостей.
Последующие отношения сабиенов с манихейством остаются вполне теплыми. Можно
сказать только одно, что елказаизм существует и до сих пор в болотах Бассоры и
один представляет собой иудео-христианские секты, когда-то процветавшие за
Иорданом.
Семья Иисуса, еще существовавшая в то время в Сирии, несомненно, относилась
отрицательно к этим зловредным химерам. Около того времени, о котором мы теперь
говорим, последний из внучатных племянников великого галилейского основателя
угас, окруженный глубоким уважением всех заиорданских общин, но почти забытый
остальными
церквями. По возвращении в Ватанею, после их представления Домициану, на
сыновей Иуды смотрели, как на мучеников. Их поставили во главе церквей, в
которых они пользовались преобладающим авторитетом, вплоть до своей смерти при
Траяне. Сыновья Клеопы в то же время, по-видимому, продолжали носить титул
президентов церкви Иерусалима. Преемником Симеона, сына Клеопы, был его
племянник Иуда, сын Иакова, которому наследовал другой. Симеон, правнук Клепы.
В Сирии, в 105 году, произошло крупное политическое событие,
принесшее для будущности христианства важные последствия. Королевство
набатейское, прилегавшее к Палестине с Востока и включавшее в себя города
Петру, Бостру и фактически, если не по праву, город Дамаск, бывшее до тех пор
независимым, было разрушено Корнелием Пальма и превратилось в римскую провинцию
Аравию. Около того же времени мелкие королевства, находившиеся в феодальных,
отношениях к империи и которыми до тех пор владели Ироды, Soemes d’Edesse
и мелкие государи Халсиса, Абилы, Селевкиды Камогены исчезли. Тогда римское
господство приняло на Востоке такую правильную форму, какой до тех пор не
имело. За границами империи находилась неприступная пустыня. Заиорданский мир,
который до тех пор только частью входил в империю, был поглощен ей целиком.
Пальмира, дававшая до тех пор Риму только вспомогательные войска, вполне
подчинилась римскому господству. Таким образом, все поле христианской
деятельности было подчинено Риму и пользовалось покоем, который положил конец
стремлениям местного патриотизма. Весь Восток принял римские нравы; города, до
тех пор бывшие совершенно восточными, перестраивались, согласно правилам и
искусству того времени. Предсказания еврейских Апокалипсисов были опровергнуты.
Империя достигла вершины своего могущества; власть одного и того же правительства
распространялась от Йорка до Ассуана, от Гибралтара до Карпат и сирийской
пустыни. Безумства Калигулы и Нерона, злоба Тиберия и Домициана были забыты. На
всем обширном пространстве сказывался только один национальный протест, протест
евреев. Все остальное безропотно склонялось перед величайшей силой,
когда-нибудь виденной до тех пор.
Глава XXI. Траян-гонитель. — Письмо Плиния
Во многих отношениях эта сила была плодотворной. He было более отечеств, а
потому и не
было более войн. Co введением реформ, которые предполагались прекрасными
политиками, стоявшими во главе дел, казалось, цель человечества была
достигнута. Раньше мы уже указывали, как этот в некотором роде золотой век
либералов, как правительство наиболее мудрых, наиболее честных людей было
тяжело для христиан и в некоторых отношениях хуже правлений Нерона и Домициана.
Государственные люди, хладнокровные, корректные, умеренные, признававшие только
закон, прилагавшие его даже снисходительно, не могли не сделаться гонителями, так
как закон всегда гонитель; он не мог допустить того, на что церковь Иисуса
смотрела, как на сущность своего божественного учреждения.
Все указывает на то, что Траян был первым систематическим гонителем
христианства. Судебная преследования христиан, хотя и не частые, производились
несколько раз в его правление. Его принципиальная политика, его приверженность
к официальному культу, его отвращение ко всему, что походило на тайное
сообщество, вынуждали его к преследованиям. К тому же побуждало его и общественное
мнение. Бунты против христиан были нередки; правительство, удовлетворявшее свое
собственное недоверие преследованиями против оклеветанной церкви, придавало
себе оттенок популярности. Бунты и преследования, следовавшие один за другим,
имели вполне местный характер. При Траяне не было того, что при Деции и при
Диоклетиане, что называлось всеобщим гонением; но положение церкви было
непрочно и неравномерно. Все зависело от капризов, и капризы толпы были
опаснее, нежели капризы самых властей. Даже между наиболее просвещенными из
правительственных уполномоченных, как например у Тацита и Светония,
существовали укоренившиеся предрассудки против «нового суеверия». Тацит считал
первым долгом хорошего политика одновременное подавление иудаизма и
христианства, «гибельных отростков одного и того же ствола».
Это стало очевидно, когда один из наиболее честных, наиболее справедливых,
наиболее образованных и наиболее либеральных людей своего времени, благодаря
своим служебным обязанностям, был поставлен лицом к лицу с возникавшей
проблемой, которая приводила в замешательство лучшие умы того времени.
В 111 году,
Плиний был назначен экстраординарным императорским легатом в провинции Вифинию
и Понт, т. е. всего севера Малой Азии. До тех пор эти страны управлялись
проконсулами, назначаемыми на один год, из сенаторов по жребию, которые правили
весьма небрежно. В некоторых отношениях свобода от этого выигрывала.
Устраненные от высших политических вопросов, эти калифы на час менее, чем
следовало, заботились о будущем империи. Расхищение общественных сборов
достигло крайних пределов; финансы и общественные работы в провинции были в
плачевном состоянии; но в то время, когда правители занимались развлечением с
самообогащением, они предоставляли стране жить, согласно ее стремлениям. Беспорядок,
как это часто бывает, благоприятствовал свободе. Официальная религия,
существовавшая только благодаря поддержке империи, предоставленная сама себе
этими равнодушными префектами, потеряла всякое значение. В некоторых местах
храмы превратились в развалины. Профессиональные и религиозные ассоциации,
гетерии, бывшие так во вкусе Малой Азии, развивались до бесконечности;
христианство, пользуясь свободой, которую ему предоставляли правители, имевшие
поручение его подавлять, повсюду широко распространялось. Мы уже видели, что в
Азии и Галатии новая религия пользовалась наибольшим успехом. Оттуда с
поразительной быстротой она распространялась по направлению к Черному Морю.
Нравы вполне переменились. Мясо приносимых в жертву идолам животных, которым
ранее снабжались рынки, не находило более покупателей. Возможно, что ядро
твердых в вере было невелико, но их окружали массы симпатизирующих, наполовину
убежденных, непостоянных, способных скрывать свою веру во избежание опасности,
в душе никогда не отрываясь от нее. В этих массовых обращениях было увлечение
моды, порывы, приносившие к церкви и уносившие от нее целые волны
неустановившегося населения; но мужество вождей противостояло всем испытаниям;
их отвращение к идолопоклонству побуждало их пренебрегать всеми опасностями,
чтобы поддержать честь принятой ими веры.
Плиний, безукоризненно честный человек и добросовестный исполнитель
императорских приказов, быстро принялся за установление порядка и закона во
вверенных ему провинциях. У него недоставало опытности; он был скорее достойным
ученым, чем настоящим администратором; у него вошло в привычку почти о каждом
деле спрашивать совета непосредственно у императора. Траян отвечал ему письмом
на письмо, и эта драгоценная переписка дошла до нас. Согласно ежедневным приказам
императора, все наблюдалось и реформировалось; требовались разрешения для самых
ничтожных вещей. Формальный эдикт запретил гетерии; самые невинные корпорации
распускались. В Вифинии существовал обычай праздновать некоторые семейные
события и местные праздники большими собраниями, на которые сходилось до тысячи
человек; эти собрания были запрещены. Свобода, которая в большинстве случаев
проникает в мир обманным путем, была доведена почти до нуля.
Христианские церкви неизбежно должна была затронуть эта боязливая политика,
которая повсюду видела призраки гетерий, которую беспокоило учрежденное
властями общество из
ста пятидесяти рабочих для борьбы с пожарами. Плиний много раз встречал на
своем пути этих невинных сектантов, опасности которых он не сознавал. На разных
ступенях своей карьеры адвоката и правительственного чиновника, он ни разу не
участвовал ни в одном христианском процессе. Доносы увеличивались о каждым
днем; следовало приступить к арестам. Императорский легат, согласно правосудию
того времени, прибег к короткой расправе; решил отправить в Рим тех из
сектантов, которые были римскими гражданами и подверг пытке двух диаконис. Все,
что он раскрыл, казалось ему ребячеством. Он бы хотел закрыть глаза на это; но
законы страны были абсолютны; доносы превзошли всякую меру; по-видимому, его
как бы побуждали арестовать всю страну.
В Амизусе, на Черном море, осенью 112 года эти замешательства
причиняли ему главные заботы. Возможно, что последние события, взволновавшие
его, происходили в городе Амастрисе, бывшем со второго века центром
христианства в Понте. Плиний, согласно своей привычке, писал об этом
императору: «Я считаю своим долгом, государь, обращаться к вам по всем делам, в
которых я сомневаюсь. Кто лучше вас сможет остановить мои колебания, просветить
мое невежество? Я никогда не присутствовал ни при каком процессе против
христиан; поэтому я не знаю, что следует наказывать, чего следует доискиваться
и до каких пределов следует идти. Например, я не знаю, нужно ли делать различие
в возрасте, или в подобном деле не существует разницы между самой нежной
молодостью и зрелым возрастом; нужно ли прощать раскаявшихся, или тот, кто был
настоящим христианином, не может извлечь никакой пользы из того, что перестал
им быть; самое ли название, без всякого другого преступления, или преступления,
неразрывно связанные с именем, следует наказывать. В ожидании указаний, вот
правила, которых я придерживаюсь по отношению тех, которых представляют на мой
суд, как христиан: я их спрашивал, христиане ли они, и тех, которые
сознавались, я допрашивал второй и третий раз, угрожая пыткой; тех, которые
упорствовали, я присуждал к смерти; так как для меня несомненно, насколько бы
не было преступно или не преступно признанное, само упорство и непоколебимое
упрямство заслуживали наказания. Было несколько других несчастных, охваченных
тем же безумием, которых я назначил к отправке в Рим, так как они римские
граждане. Далее, во время судопроизводства выяснилось, как обыкновенно, что
преступление имеет много всевозможных разветвлений. Был представлен анонимный
донос, содержащий много имен. Тех, которые отрицали, что они христиане или были
ими, я считал своим долгом отпустить после того, как они призвали богов и
молились, воскуряя фимиам и возливая вино перед вашим изображением, которое я
велел принести вместе со статуями богов; притом они проклинали Христа, к чему,
как говорят, нельзя принудить истинных христиан. Другие из названных доносчиков
заявили, что они были христианами, но вскоре отказались от этого, сознаваясь,
что раньше действительно были ими, но перестали ими быть давно; некоторые три
года, другие еще больше, а некоторые двадцать лет. Последние тоже воздали
почести вашему изображению и статуям богов и прокляли Христа. Они утверждали,
что весь их проступок или заблуждение заключались в том, что они обыкновенно в
определенные дни собирались на восходе солнца, чтобы петь попеременно гимны
Христу, как Богу, давать клятву в том, что не будут совершать того или другого
преступления, что не будут воровать, разбойничать, блудничать, нарушать клятву,
отрицать, что получили что-нибудь на хранение; совершив это, они обыкновенно
расходились для того, чтобы опять собраться вместе для трапезы обыкновенной и
вполне невинной; что и это они прекратили совершать после эдикта, которым я,
согласно вашему приказанию, запретил гетерии. Выслушав это, я счел своим долгом
приступить к розыску истины, предав пытке двух слуг так называемой диакониссы.
Я не нашел ничего кроме скверного и несоразмерного суеверия, и решил
приостановить следствие и обратиться к вам за советом. По-моему, дело
заслуживает этого, в особенности, если принять во внимание число лиц,
находящихся в опасности. Действительно, огромное количество всех возрастов,
всех положений и обоих полов привлечены к суду или должны быть привлечены; не
только города, но местечки и деревни охвачены заразой этого суеверия. Мне
кажется, что его можно остановить и излечить. Уже установлено, что храмы,
которые были совершенно заброшены, стали посещаться; торжественные праздники,
было прекратившиеся, возобновились, и начали опять выставлять мясо жертв, для
которого прежде находились очень редкие покупатели. Отсюда легко заключить, что
много людей может быть возвращено к старой религии, если им дать возможность
раскаяться!»
Траян отвечал:
«Ты поступил, как должно, мой дорогой Секундус, в деле расследования
представленных на твой суд христиан. В подобных делах нельзя установить общего
определенного правила для всех случаев. Не нужно их разыскивать; но если на них
доносят и они изобличены, их следует наказывать, но при этом тот, кто отрицает,
что он христианин и доказывает это своими делами, т. е. обращением с
молитвой к нашим богам, должен получить прощение в награду за свое раскаяние,
каковы бы ни были подозрения по отношению к его прошлой жизни. Что же касается анонимных
доносов, то какие бы обвинения в них ни заключались, на них не нужно обращать
внимания; так как они представляют из себя отвратительный пример,
несоответствующий нашим временам».
Больше нет сомнений. Быть христианином значит находиться в противоречии с
законом и заслуживать
смерти. Начиная с Траяна, христианство государственное преступление. Только
несколько терпимых, императоров третьего столетия закрывали глаза и терпели
христианство. Хорошее правительство, согласно взгляду наиболее благосклонного
из императоров, не должно стремиться разыскать возможно более виновных; оно не
поощряет доносы; но оно поощряет вероотступничество и милует ренегатов. Для
него представляется вполне естественным проповедовать, советовать и
вознаграждать самое безнравственное действие, наиболее унижающее человека в его
собственных глазах. Вот ошибка, в которую впало одно из лучших правительств из
когда бы то ни было существовавших; оно впало в нее, так как затронуло вопросы
совести и желало сохранить старый принцип государственной религии, что было
вполне естественно для маленьких античных городов и гибельно для великой
империи, составленной из разных частей, не имевшей ни общей истории, ни общих
моральных требований.
Из этих драгоценных документов ясно вытекает также и то, что христиане уже
не преследуются как евреи, что имело место при Домициане; теперь их преследуют,
как христиан. В юридическом мире их уже более не смешивают, хотя в обыденной
жизни смешение происходит очень часто. Иудаизм не преступление; и помимо дней восстания,
он даже имел свои гарантии и привилегии. Странная вещь, иудаизм три раза с
неописуемым бешенством восстававший против империи, никогда официально не
преследовался; дурное обращение, которое приходилось выносить евреям, подобно
тому, которое переносят райи в мусульманских странах, являлось результатом
подчиненного
положения, а не законного наказания; очень редко во втором и третьем веке еврей
переносил мученичество за нежелание принести жертву идолам или изображению
императоров. Напротив, не раз администрация покровительствовала евреям против
христиан. Наоборот, христианство, никогда не восстававшее, было поставлено вне
закона. Иудаизм имел, если можно так выразиться, свой конкордат с империей;
христианство его не имело. Римская политика чувствовала, что христианство, как
термит, изнутри подтачивало здание античного общества. Иудаизм не стремился
проникнуть в империю; он мечтал о сверхъестественном перевороте; в минуты
увлечения он брался за оружие, убивал все, слепо наносил удары, потом, как
бешеный сумасшедший после припадка, позволял себя заковать; христианство же
вело свое дело медленно и тихо. Смиренное и скромное по виду, оно имело
безграничное честолюбие; между ним и империей была борьба на жизнь и на смерть.
Ответ Траяна Плинию не был законом; но он предполагал законы и устанавливал
их толкование. Сдержанность, указываемая разумным императором, не имела
большого значения. Было легко найти поводы, чтобы недоброжелательность к
христианам получила возможность проявиться. Было достаточно подписанного доноса
по поводу какого-нибудь открытого действия. Между тем, поведение христианина
при проходе мимо
храма, его вопросы на рынке с целью узнать, откуда идет продающееся мясо, его
отсутствие на общественных праздниках выдавало его. Таким образом, местные
преследования не прекращались. Императоры преследовали менее, чем проконсулы.
[Таков был Аррий Антонин, который пролил столько христианской крови в Азии.
Здесь дело касается не Аррия Антонина предка, со стороны матери, Антонина Пия,
но другого лица, носившего то же имя, времен Коммода.] Все зависело от хорошего
или дурного расположения правителей; хорошее же расположение бывало редко.
Прошло то время, когда римская аристократия относилась к этим экзотическим
новостям с некоторого рода благосклонным любопытством. В это время она
относилась с холодным презрением к безумиям, которые не уничтожаются только по
чувству умеренности и сострадания к человеческим существам. С другой стороны,
народ выказывал значительный фанатизм. Те, которые никогда не приносили жертвы
или, проходя мимо священных зданий, не посылали им поцелуя обожания, рисковали
своею жизнью.
Глава XXII. Игнатий Антиохийский
На долю Антиохии выпала очень жестокая часть этих суровых мер, которые
оказались вполне
недействительными. Церковь Антиохии или, по крайней мере, та часть ее, которая
была связана с Павлом, имела своим вождем лицо, окруженное глубоким почтением,
которого называли Ignatius. Это имя было, очевидно, латинским
эквивалентом сирийского имени Nourana. Известность Игнатия была
распространена особенно в Малой Азии при обстоятельствах, нам неизвестных.
Вероятно, вследствие одного из народных волнений, он был арестован, приговорен
к смерти и предназначен, так как он не был римским гражданином, к отправке в
Рим на растерзание диких животных в амфитеатре. Для этого обыкновенно выбирали
красивых людей, достойных быть показанными римской толпе. Путешествие этого
мужественного исповедника из Антиохии в Рим по побережью Азии, Македонии и
Греции было некоторого рода триумфом. Церкви городов, к которым приставали по
пути, толпились вокруг него и просили его советов. Он, с своей стороны, писал
им послания, полные наставлений, которым, благодаря его положению, аналогичному
с положением св. Павла, пленника Иисуса Христа, придавали высокий авторитет.
В особенности из Смирны Игнатий вступил в сношения со всеми церквями Азии.
Поликарп, епископ Смирны, видел его и хранил о нем глубокое воспоминание. Из
этого города Игнатий вел широкую корреспонденцию. К его письмам относились
почти с таким же уважением, как и к апостольским посланиям. Окруженный гонцами
священного характера, прибывавшими и уезжавшими, он более походил на
могущественное лицо, чем на пленника. Вид этого поразил даже самих язычников и
послужил основой маленького курьезного романа, дошедшего до нас.
Подлинные послания Игнатия, по-видимому, почти потеряны; те, которые мы
имеем, адресованные к ефесенам, магнезианам, тралейцам, филадельфийцам,
смирниотам и Поликарпу, не более как апокрифы. Четыре первые как бы написаны из
Смирны, два последние из Александрии Троады. Эти шесть произведений являются
все более и более слабыми снимками одного и того же типа. Гений, индивидуальный
характер там вполне отсутствуют. Но, по-видимому, среди писем, написанных
Игнатием из Смирны, было одно, адресованное к верующим Рима в подражание
св. Павлу. Это письмо, в том виде, как мы его имеем, поразило весь древний
духовный мир. Ириней, Ориген и Евсевий его цитируют, им восхищаются. Его стиль,
имеющий несколько терпкий вкус, выразителен и чрезвычайно популярен; шутка
переходит в игру слов; со стороны вкуса многие места до неприличия
преувеличены; но наиболее горячая вера, пламенная жажда смерти никогда не
внушали более страстного тона. Энтузиазм мученичества, в течение двухсот лет
бывший господствующим духом христианства, был выражен автором этого
необыкновенного произведения, кто бы он ни был, в наиболее экзальтированной
форме.
«Силою молитвы я получил возможность увидать ваши святые лица; я получил
даже более, чем просил; так как если Бог даст мне милость дойти до конца, я надеюсь,
что обниму вас пленником Иисуса Христа. Дело хорошо началось, только чтобы
ничто не помешало выполнить выпавший на мою долю жребий. Это из-за вас
происходят мои беспокойства: я боюсь, что ваша преданность принесет мне вред.
Вы ничем не рискуете, а я потеряю Бога, если вам удастся меня спасти... Никогда
мне не представится подобного случая, и вы, при условии, что будете иметь
милосердие оставаться спокойными, никогда не содействовали лучшему делу. Если
вы ничего не скажете, я, действительно, буду принадлежать Богу; если все,
наоборот, вы любите мое тело, я снова буду брошен в борьбу. Допустите, чтобы я
был заколот, пока жертвенник готов, чтобы вы собрались все вместе в хор,
пропели Отцу во Христе Иисусе: «велика благость Бога, который соблаговолил привести
с восхода к закату епископа Сирии». Действительно, хорошо лечь в этом мире в
Боге, чтобы воспрянуть в нем.
«Вы никогда никому не делали зла; зачем же начинать теперь? Вы учителя для
многих других! Я хочу только одного — выполнить то, чему вы учите, то, что вы
предписываете. Просите для меня только силы внутренней и внешней, чтобы я не
только назывался христианином, а был действительно им, когда исчезну для мира.
Все видимое неважно. Все, что видимо, временно, то, что невидимо, вечно». Наш
Бог, Иисус Христос, живущий в Отце, более не показывается. Христианство не
только дело молчания, оно становится делом блеска, когда его ненавидит мир.
«Я пишу церквям о том, что убежден, что умру во имя Бога, если вы мне не
помешаете. Я вас умоляю не выказать себя вашей неуместной добротой моими
злейшими врагами. Предоставьте мне стать пищей для зверей, благодаря которым я
буду допущен наслаждаться Богом. Я пшеница Божия; нужно, что бы я был размолот
зубами животных, дабы я стал чистым хлебом Христа. Скорее ласкайте их, для
того, чтоб они сделались моей могилой, чтобы они не оставили ничего от моего
тела и чтобы мои похороны не обременяли никого. Я тогда сделаюсь действительно
последователем Христа, когда мир не будет более видеть моего тела...
«С самой Сирии до Рима, на земле и на море, днем и ночью я борюсь со
зверями, прикованный, как я есть, к десяти леопардам (я говорю о солдатах, моих
стражниках, которые становятся тем злее, чем более сделаешь им добра).
Благодаря их дурному обращению, я вырабатываюсь; «но тем не оправдываюсь». Я
вас уверяю, что выиграю, представ перед зверями, приготовленными для меня. Я
надеюсь, что увижу их в хорошем настроении; если понадобится, я поласкаю их
рукою, чтобы они пожрали меня немедленно, а не поступали, как с другими,
которых они боялись тронуть. Если они будут действовать неохотно, я их
заставлю.
«Простите меня, я знаю, что для меня лучше. Теперь только я начинаю
становиться настоящим последователем, Нет, никакая власть, ни видимая ни
невидимая, не помешает мне наслаждаться Иисусом Христом. Огонь и крест, стадо
зверей,
вывертывание костей, раздробление членов, растерзание всего тела, все мучения
демонов пусть падут на меня, только бы я мог наслаждаться Иисусом Христом...
Моя любовь была распята, после этого у меня нет любви к матери, есть только
одна живая вода, которая журчит во мне и говорит: «Иди к Отцу». Мне уже не
доставляет удовольствия тленная пища и радости этой жизни. Я хочу хлеба
Божьего, того хлеба жизни, которым является тело Иисуса Христа, сына Божия,
рожденного в конце времен из рода Давида и Авраама; я хочу иметь напиток — его
кровь, которая есть нетленная любовь, жизнь вечная».
Шестьдесят лет после смерти Игнатия, характерная фраза этого отрывка «я
пшеница Божия...» сделалась традиционной в церкви, ее повторяли для ободрения
себя на мученичество. Может быть, это передавалось устно, а, может быть,
послание в
своем основании действительно подлинно, — я хочу сказать об энергичных фразах,
которыми Игнатий выражает свое желание мученичества и свою любовь к Иисусу. В
подлинном рассказе о мученичестве Поликарпа (155), по-видимому, есть намеки на
самый текст послания к римлянам, которое мы имеем. Игнатий, таким образом, стал
великим учителем мученичества, побудителем к безумной жажде смерти во имя
Иисуса. Его письма, настоящие или предполагаемые, были собраны, и из них
почерпали наиболее поразительные выражения зкзальтированных чувств. Диакон
Стефан своим героизмом осветил диаконство и священнослужителей; еще с большим
блеском епископ Антиохии окружил ореолом святости должность епископа. Не без
основания ему приписывали писания, в которых эти обязанности возвышались
гиперболой. Игнатий, действительно, был покровителем епископа, создателем
привилегии церковных вождей, первой жертвой их грозной власти.
Всего любопытнее то, что эта история, рассказанная впоследствии одному из
наиболее умных писателей века — Лукиану, внушила ему главные черты его
маленькой картинки нравов, названной «О смерти Перегрина». Несомненно, что
Лукиан заимствовал из рассказов об Игнатии те места, в которых он представляет
своего шарлатана разыгрывающим роль епископа-исповедника, закованного в цепи в
Сирии, отправленного в Италию, окруженного заботами и услужливостью верующих,
принимающих со всех сторон депутации священников, имеющих поручение его
утешать. Перегрин, подобно Игнатию, присылает из своего плена в знаменитые
города, расположенные по его пути, послания, полные советов и правил, которые
принимаются, как законы; для этого он учредил гондов, облеченных в религиозный
сан; наконец, он предстает перед императором, выражает свое отсутствие страха
перед его властью со смелостью, которую Лукиан находит дерзкой, но которую
фанатические поклонники представляют, как порыв святой свободы.
В церкви память об Игнатии была особенно возвышена приверженцами святого
Павла. Видеть Игнатия было почти равно благу видеть святого Павла. Высокий
авторитет мученика был одной из причин успеха этой группы лиц, право
существования которой в церкви Иисуса оспаривалось. Около 170 года
один из последователей Павла, стремившийся к установлению епископального
авторитета, задумал план подражания соборным посланиям, приписываемым апостолу.
Он решил составить от имени Игнатия серию посланий, имеющих целью внушить
антиеврейское зарождение христианства, а также идеи строгой иерархии и правоверного
кафолицизма, в противовес заблуждениям доцетизма и некоторых гностических сект.
Эта послания, которые, как хотели этому верить, были собраны Поликарпом, были
приняты с увлечением и имели главное влияние в установлении дисциплины и догмы.
Рядом с Игнатием мы видим фигурирующими во всех наиболее древних документах
двух лиц, которых,
по-видимому, связывают с ним, — Зосиму и Руфа. Игнатий, по-видимому, не имел
спутников; может быть, Зосима и Руф были лица, известные в кругу церквей Греции
и Азии, и пользовались репутацией высокой преданности Христовой церкви.
Около того же времени мог пострадать и другой мученик, которому титул главы
церкви Иерусалима и родство с Иисусом придавало большое значение; я говорю о
Симеоне, сыне (или вернее правнуке) Клеопы. Установившееся мнение у христиан и,
вероятно, воспринятое окружавшими их о происхождении Иисуса из рода Давидова,
приписывало то же происхождение и всем его единокровным. Однако, в то бурное
время, в котором находилась Палестина, подобный титул нельзя было носить в
безопасности. Даже при Домициане, как мы уже видели, у римских властей
возбудилось подозрение по поводу претензий, в которых сознались сыновья Иуды.
При Траяне возникли подобные же опасения. Потомки Клеопы, стоявшие во главе
церкви Иерусалима, были слишком скромными людьми, чтобы хвастать своим
происхождением, которое нехристиане могли, может быть, оспаривать; но они не
могли скрыть этого от связанных с церковью Иисуса еретиков, эвионитов, ессеев,
елказаитов, которые были еле-еле христианами. Кем-то из этих сектантов был
послан донос римским властям и Симеон, сын Клеопы, быт предан суду. Консульским
легатом в Иудее
в этот момент был Тиверий Клодий Аттик, который, по-видимому, был отцом
знаменитого Ирода Аттика. Это был темного происхождения афинянин, нашедший
огромный клад и сделавшийся внезапно богатым; благодаря своему состоянию, ему
удалось получить титул консульского наместника. В этом случае он выказал себя
чрезвычайно жестоким. В течение нескольких дней он мучил несчастного Симеона
несомненно с целью выпытать предполагаемый секрет. Аттик и его помощники
восхищались мужеством мученика. Кончили тем, что его распяли. Гегезипп,
благодаря которому мы знаем все эти подробности, уверяет нас, что обвинители
Симеона сами были обвинены в том, что они из рода Давидова и погибли так же,
как и он. He следует слишком удивляться подобным доносам. Мы уже видели, как во
время преследования в 64 году, по крайней мере, в смерти апостолов Петра и
Павла, внутреннее соперничество еврейских и христианских сект сыграло большую
роль.
Рим в эту эпоху, по-видимому, не имел мучеников. Между presbyteri и
ерisсорi, которые управляли церковью столицы, считаются Эварист,
Александр и Ксист, которые, по-видимому, умерли в покое.
Глава XXIII. Конец Траяна. —
Восстание евреев
Траян, победитель дакийцев, украшенный всеми триумфами, достигший высшего
предела могущества, которого когда-нибудь достигал человек того времени,
несмотря на свои 60 лет, строил бесконечные планы по отношению к Востоку.
Границы империи в
Сирии и Малой Азии были недостаточно обеспечены. Недавнее разрушение царства
набатейцев отдалило на целое столетие опасность от арабов. Но армянское
королевство, хотя и считавшееся вассалом Рима, беспрерывно склонялось к союзу с
парфянами. Во время дакийской войны, Арсасид поддерживал сношения с Децебалом.
Парфянская империя, властительница Месопотамии, грозила Антиохии и создавала
для провинций, неспособных защитить себя, вечную опасность. Экспедиция на
Восток, имевшая в виду присоединение к империи Армении, Osrhoene, Мигдонии, стран,
которые в действительности после походов Люция Вера и Септимия Севера
принадлежали империи, была благоразумна. Но Траян не отдавал себе достаточного
отчета о положении дел на Востоке, он не видел, что за Сирией, Арменией и
севером Месопотамии, из которых легко можно было сделать проводника западной
цивилизации, распространяется древний Восток, полный номадов, имеющий рядом с
городами непокорное население, делавшее невозможным установление европейского
порядка. Этот Восток никогда не был прочно побежден цивилизацией; сама Греция
властвовала над ним только временно. Создать римские провинции в эхом мире,
совершенно особом по климату, расам и способу жизни от тех, которых Рим до тех
пор ассимилировал, было не более, как химера. Империя, которой были нужны все
ее силы против германского напора на Рейне и Дунае, приготовляла себе на Тигре
борьбу не менее трудную. Так как, если предположить, что Тигр по всему своему
течению действительно стал бы пограничной рекой, Рим не имел бы за этим
громадным рвом опоры солидного населения галлов и германцев Запада. Не поняв
этого, Траян сделал ошибку, которую можно сравнить только с ошибкой
Наполеона I в 1812 году. Его экспедиция против парфян аналогична
русской кампании. Прекрасно задуманная экспедиция началась целой серией побед,
потом перешла в борьбу с природой и закончилась выступлением, которое набросило
темное облако на конец блестящего царствования.
Траян покинул Италию, которую он после того уже больше не видал, в октябре
месяце 113 года. Он
провел зимние месяцы в Антиохии, и весной 114 года начал свою кампанию
против Армении. Результат был поразительный: в сентябре Армения была превращена
в римскую провинцию; границы римской империи достигли Кавказа и Каспийского
моря. Следующую зиму Траян отдыхал в Антиохии.
Результаты 115 года были не менее поразительны. Северная Месопотамия со
своими маленькими более или
менее независимыми княжествами была побеждена и покорена; Тигр был достигнут. В
этих местах было много евреев. Династии Izates и Monobazes,
всегда бывшие вассалами парфян, властвовали над Низибией. Несомненно, что в
этом случае, как и в 70 году, они дрались против римлян. Но пришлось
покориться. Траян опять провел зиму в Антиохии, где 13-го декабря он чуть не
погиб при ужасном землетрясении, повредившем город, он спасся с трудом.
116 год увидел чудеса; можно было думать, что наступили времена
Александра. Траян завоевал Адиабену за Тигром, несмотря на сильное
сопротивление, оказанное им, вероятно, отчасти благодаря еврейскому элементу.
Там следовало остановиться. Насилуя свое счастье, Траян вступил в центр
парфянской империи. Стратегия у парфян была та же, что и у русских в
1812 году; она состояла в том, чтобы сначала не оказывать никакого
сопротивления. Траян беспрепятственно шел до Вавилона, взял Ктесифон, западную
столицу империи, Оттуда спустился по Тигру до Персидского залива, увидел все
отдаленные моря, которые представлялись римлянам, как во сне, и возвратился в
Вавилон. Там черные точки стали скапливаться на горизонте. В конце
116 года Траян узнал в Вавилоне, что восстание разразилось у него в тылу.
Несомненно, что евреи приняли большое участие в этом, их было много в Вавилоне.
Сношения между палестинскими и вавилонскими евреями были непрерывные; ученые
переезжали с большой легкостью из одной страны в другую. Обширное тайное
общество, избегшее всякого надзора, создало наиболее деятельное политическое
орудие. Траян поручил подавить это опасное движение Люцию Квету, вождю
берберийской кавалерии, который со своим goum поступил на службу к римлянам и
оказал им во время парфянских войн большие услуги. Квет вновь взял Низибию и
Эдессу; но Траян стал понимать невозможность выполнить задуманное им
предприятие и стал готовиться к возвращению.
Печальные новости одна за другой стали доходить до него. Евреи восставали
повсюду. Невообразимые ужасы происходили в Киренаиках. Неистовство евреев
достигло невиданных ранее пределов. Этот несчастный народ опять потерял голову.
Возможно, что в Африке уже предчувствовали долженствовавший произойти поворот в
счастье Траяна, возможно, что еврейство Кирен, наиболее фанатическое из всех,
вообразило, благодаря какому-нибудь пророчеству, что день гнева против
язычников наступил и что было пора приступить к мессианическим уничтожениям, и
все евреи принялись за дело, как бы охваченные бешенством. Это было не столько
восстанием, сколько избиением, при самой ужасной зверской обстановке. Имея во
главе некоего Лукову, носившего между своими титул царя, эти бешеные начали
резать греков и римлян, съедая мясо тех, кого они зарезали, делая себе пояса из
их кишок; натирались их кровью, сдирали со своих жертв кожу и покрывались ей.
Видели этих бешеных, распиливающих несчастных сверху до низу посередине тела;
иногда инсургенты бросали идолопоклонников на растерзание зверям в воспоминание
того, что делали с ними, заставляли также язычников убивать друг друга, как
гладиаторов. Насчитывали до двухсот двадцати тысяч киренаиков, зарезанных таким
образом. Это было почти все население провинции, которая превратилась в
пустыню. Чтобы ее вновь населить, Адриан должен был привозить колонистов из
других мест; но эта страна никогда уже не достигла того цветущего состояния,
которым она была обязана грекам.
Из Киренаик эпидемия избиений перешла в Египет и на Кипр. На Кипре было
произведено много ужасов. Под предводительством некоего Артемиона, фанатики
разрушили город Саламин и вырезали все его население. Определяли цифру
зарезанных киприотов в двести сорок тысяч. Озлобление по поводу этих
жестокостей было таково, что киприоты решили изгнать навеки евреев со своего
острова; даже еврей, выброшенный на берег, предавался смерти.
В Египте восстание евреев приняло размеры настоящей войны. Восставшие
вначале имели успех. Луп, префект Египта, должен был отступить. Сильная тревога
охватила Александрию. Чтобы сделать укрепления, евреи разрушили храм Немезиды,
построенный Цезарем в Помпее. Ho греческое население, хотя и не без борьбы,
взяло верх. Все
греки нижнего Египта укрылись вместе с Лупом в городе и устроили нечто вроде
укрепленного лагеря. Было пора. Киренаики под предводительством Луковы подошли,
чтобы присоединиться к своим братьям в Александрии и вместе с ними составить
одну армию. Лишенные поддержки своих александрийских единоверцев, которые все
были перебиты или в плену, но подкрепленные шайками, пришедшими из других частей
Египта, киренаики рассеялись по стране, грабя и убивая вплоть до Фебаиды; в
особенности они старались овладеть правительственными лицами, которые
стремились укрыться в прибрежные города Александрию и Пелузу. Аппиан, будущий
историк, тогда еще молодой, занимавший муниципальную должность в Александрии,
своем отечестве, чуть-чуть не попался в руки этих бешеных. Нижний Египет был
залит кровью. Бежавшие идолопоклонники преследовались, как дикие звери; пустыня
со стороны Суэцкого перешейка была наполнена скрывавшимися людьми, которые
старались войти в сношения с арабами, чтобы избежать смерти.
Положение Траяна в Вавилонии становилось все более и более критическим.
Арабские намады, входившие в промежуток между двумя реками, доставляли ему
много беспокойств. Неприступное место Гатра, населенное воинственным племенем,
остановило его окончательно. Окружавшая его страна была пустыня, нездоровая,
без леса и воды, переполненная москитами, подверженная ужасным атмосферным
колебаниям. Траян,
несомненно, благодаря самолюбию, совершил ошибку, пожелав покорить эту пустыню:
как впоследствии Септимий Север и Ардешир Бабек, он потерпел неудачу. Армия
была страшно истощена болезнями. Город был центром великого культа солнца;
думали, что сам Бог борется за свой храм; бури, разражавшиеся во время атак,
наполняли ужасом сердца солдат. Траян снял осаду уже пораженный болезнью, от
которой он умер через несколько месяцев. Отступление было трудным и
ознаменовано не одной частичной катастрофой.
Около апреля месяца 117 года император уже возвратился в Антиохию
грустный, больной и раздраженный. Восток победил его без борьбы. Все,
преклонившиеся перед победителем, стали подыматься. Результаты трехлетней
компании,
полные чудесной борьбы с природой, были компрометированы. Траян подумывал о
том, чтобы начать сызнова, дабы не потерять репутацию непобедимого. Но вдруг
печальные новости показали ему, к каким опасностям вело положение дел,
создавшееся благодаря его последним неудачам. Еврейское восстание,
ограничивавшееся до тех пор Киренаиками и Египтом, грозило распространиться на
Палестину, Сирию и Месопотамию. Постоянно сторожа разрушение римской империи,
эти экзальтированные уже в десятый раз воображали, что видят признаки,
указывающие на конец ненавистного им господства. Возбуждаемые книгами, подобными
Юдифи и Апокалипсису Ездры, они воображали, что конец Едома наступил. Крики
радости, которыми они встретили смерть Нерона и смерть Домициана, раздавались
снова. Поколение, принимавшее участие в великом восстании, почти все исчезло;
новое же ничему не научилось. Эти крепкоголовые, упрямые, полные страсти, были
неспособны расширить железный круг, которым наследственная психологическая
закоренелость сковала их.
To, что происходило в это время в Иудее, неясно; нет ни одного точного
указания на то, что там была война или избиение. Адриан, губернатор Сирии,
по-видимому, успел сохранить порядок в Антиохии, в которой он жил. Ученые Явнеи
были далеки от побуждения к восстанию, наоборот, они показывали, как точным
соблюдением
Закона можно найти новый путь к душевному покою. Казуистика в их руках была
игрушкой и, как всякая игрушка, должна была действовать успокоительным образом.
Что касается Месопотамии, то совершенно естественно, что население только
недавно подчиненное, еще год тому назад восстававшее и среди которого было не
только рассеянное еврейство, а еврейские армии и династии, восстало после
неудачи при Гатре и при первых признаках приближающейся смерти Траяна,
по-видимому, тут римляне прибегли к наказаниям только по подозрению. Они
боялись, что пример Киренаик, Египта и Кипра будет заразителен и раньше, чем
могли начаться избиения, Траян поручил Люцию Квету изгнать всех евреев из вновь
завоеванных провинций. Квет приступил к делу так, как будто совершал
экспедицию. Этот злой и безжалостный африканец, поддерживаемый своей легкой
кавалерией из мавритан, сидевших на лошади без седла и узды, повел дело, как
башибузук, избивая направо и налево. Большая часть еврейского населения в
Месопотамии была уничтожена. Траян, желая наградить Квета за службу, отделил Палестину
от сирийской провинции и назначил его легатом, что поставило его на один
уровень с Адрианом.
Восстание Киренаик, Египта и Кипра продолжалось. Для усмирения его Траян
назначил одного из своих наиболее выдающихся помощников, Марция Тюрбо. В его
распоряжение дали
сухопутные и морские силы и многочисленную кавалерию. Чтобы покончить с
безумными, пришлось вести правильную войну и дать несколько сражений. Несколько
раз происходила настоящая резня. Все киренейские евреи и те из египетских
евреев, которые к ним присоединились, были вырезаны. Блокада с Александрии была
снята, и она вздохнула свободно; но город потерпел значительное разрушение, и
одной из первых забот Адриана, когда он стал императором, было исправление
развалин, и он считал себя восстановителем Александрии.
Таково было это печальное восстание, первыми виновниками которого,
по-видимому, были евреи и которое их окончательно уронило во мнении
цивилизованного мира. Бедный Израиль впал в буйное помешательство.
Отвратительные ужасы, далекие от духа христианства, расширили ров, отделявший
иудаизм от церкви. Христианин делается все более и более идеалистом, утешаясь
своей мягкостью, своим покорным ожиданием. Израиль предпочел лучше стать
канибалом, нежели признать своих пророков лжецами. Псевдо-Ездра двадцать лет
перед тем довольствовался нежными упреками благочестивой души, считающей себя
забытой Богом; теперь хотели убивать, уничтожить язычников чтобы не могли
сказать, что Бог не исполнил обещания, данного им Иакову. Всякий сильный
фанатизм, доведенный до потери надежд, впадает в бешенство и становится опасным
для человеческого разума.
Численность еврейства значительно уменьшилась, благодаря этой нелепой войне.
Количество погибших было ужасное. о этого момента еврейство в Киренаиках и
Египте постепенно стало исчезать. Могущественная община Александрии, игравшая
существенную роль в жизни Востока, потеряла свое значение. Великая синагога
Diapleuston, которая в глазах евреев представлялась чудом мира, была
разрушена. Еврейский квартал, расположенный близ Лошиа, превратился в поле
развалин и могил.
Глава XXIV. Окончательное отделение церкви от
синагоги
Фанатизм не знает раскаяния. Чудовищное заблуждение 117 года оставило в
еврейском предании только воспоминание праздника. В числе дней, в которые
запрещается пост и в которые траур должен быть приостановлен, фигурирует
12 декабря iom Traianos или «день Траяна», не потому, что война
116—117 дала какой-нибудь день победы, а потому, что агада желала
приписать этому дню погибель врага Израиля. Избиения Квета, с другой стороны,
сохранились в предании под именем polemos schel Quitos; с этим
связывалось расширение траура Израиля.
«После polemos schel Aspasinos запрещены венки для женихов и
употребление тамбуринов.
После polemos schel Quitos запрещены венки для невест и запрещено
учить своего сына греческому языку. После последнего polemos запрещено
замужней показываться в городе в носилках».
Итак, каждое безумие приводило к новому лишению, к новому отказу от
какого-нибудь проявления жизни. В то время, как христианство становится все
более и более греческим и
латинским, а его писатели приспосабливаются к хорошему греческому стилю, евреи
прекращают изучение греческого и упрямо замыкаются в своем нелепом
сиро-еврейском наречии. Корни для всякой правильной интеллектуальной культуры
подрезываются для него на 1000 лет. Это, главным образом, к этой
эпохе относятся решения, представлявшие греческое воспитание нечистым или, по
меньшей мере, суетным.
Человеком, приобретавшем в Явнее известность и с каждым днем все более и
более выдвигавшимся, как
будущий вождь Израиля, был в это время некий Акиба, ученик рабби Тарфона,
человек темного происхождения, без связи с известными домами, владевшими
кафедрами и официальными должностями у нации. Он происходил от прозелитов и
провел юность в бедности. Он, по-видимому, был некоторого рода демократ и
первоначально был полон дикой ненависти к ученым, среди которых ему
впоследствии пришлось заседать. Его толкование и казиустика были верхом
остроумия. Каждая буква, каждый слог канонических текстов становились
знаменательными; и из них старались получить выводы. Акиба был автором того
метода, благодаря которому; по выражению Талмуда, «из каждой черточки буквы
получались полные меры постановлений». He могли допустить, чтобы в кодексе
откровения существовал хотя бы малейший произвол, малейшая свобода стиля и
орфографии. Так, например, частичка ЛХ, простой знак режима, который
по-еврейски позволялось ставить и опускать, служил поводом для ребяческих
выводов.
Это было близко к безумию; всего два шага от Каббалы или от notarikon,
пустых комбинаций, в которых текст
уже не представляет человеческого языка, а принимается за божественную
волшебную книгу. В частностях советы Акибы отличаются умеренностью; изречения,
которые ему приписывают, носят на себе отпечаток даже некоторого рода
либерального духа. Но неистовый фанатизм портил все их достоинства. Происходили
самые большие противоречия в этих натурах, одновременно тонких и некультурных,
у которых суеверное изучение единственного текста изгнало правильный смысл из
языка и рассудка. Беспрерывно путешествуя из синагоги в синагогу, по всем
странам Средиземного моря и, может быть, даже в страну парфян, Акиба
поддерживал в своих единоверцах тот странный огонь, которым он был сам
переполнен и который вскоре сделался таким гибельным для его страны.
По-видимому, памятником этих времен мрачной грусти служит Апокалипсис
Варуха. Это произведение является подражанием Апокалипсису Ездры и разделяется,
как и последний, на семь видений. Варух, секретарь Иеремии, получает приказание
от Бога остаться в Иерусалиме для того, чтобы присутствовать при наказании
преступного
города. Он проклинает судьбу, благодаря которой он родился, чтобы быть
свидетелем оскорблений, нанесенных его матери. Он умоляет Бога пощадить
Израиль. Иначе кто будет Его восхвалять, кто будет объяснять законы? Разве мир
предназначен возвратиться к первобытному молчанию? И какая радость будет для
язычников, которые возвратятся в страны своих идолов для восхваления перед ними
поражения, которое они нанесли истинному Богу!
Божественный собеседник отвечает, что Иерусалим, который будет разрушен, не
тот вечный Иерусалим, который был показан Адаму до его грехопадения, не тот,
который предвидели Авраам и Моисей. Это неязычники разрушат город; это гнев
Божий уничтожит его. Ангел спускается с неба, берет из храма все священные
предметы и передает их на хранение земле. Затем другие ангелы разрушают город.
На развалинах Варух поет гимн траура. Он негодует, что природа продолжает идти
своим путем, что земля улыбается, а не сожжена вечным солнцем юга.
«Землепашец, прекрати сеять, а ты, земля, перестань приносить жатву; лоза, к
чему будет служить производство твоего вина, так как Сиона больше нет? Женихи,
откажитесь от своих прав; девственницы, не украшайте себя более венками; женщины,
перестаньте молить, чтобы сделаться матерями. Отныне бесплодные будут
радоваться, а матери плакать; так как зачем рожать в болезнях того, кого
придется похоронить со слезами? Отныне не говорите об очаровательном, не
разговаривайте более о
красоте. Священники, возьмите ключи от святилища, бросьте их вверх к небу,
отдайте их Господу и скажите ему: «храни теперь свой дом». А вы, девы, которые
прядете лен и шелк с золотом Офира, поторопитесь, соберите все и бросьте в
огонь, чтобы пламя унесло эти предметы к тому, кто их сделал, и чтобы наши
враги ими не пользовались. Земля, имей уши; пыль, соберись с мужеством сообщить
в scheol и сказать мертвым: «как вы счастливы в сравнении с нами!».
Псевдо-Варух не лучше псевдо-Ездры может понять поведение Бога по отношению
к своему народу. Конечно, наступит очередь язычников. Если Бог дал такой
суровый урок своему народу, то что же будет с теми, которые все Его блага
обратили против него же? Но как объяснить судьбу многих праведных, которые
добросовестно исполняли Закон и были уничтожены? Почему, благодаря им,
Бессмертный не сжалился над Сионом? Почему он обратил внимание только на злых?
«Что ты сделал со своими слугами?» — восклицает благочестивый писатель. «Мы
более не в силах понять, как ты можешь быть нашим создателем. Когда мир не имел
жителей, ты создал человека управлять твоими произведениями, дабы показать, что
мир существует для человека, а не человек для мира. И вот теперь, когда мир,
созданный для нас, продолжает существовать, мы, для которых он создан, мы
исчезаем».
Бог отвечает: человек был создан свободным и разумным. Если он наказан, то
он этого хотел. Для
праведного этот мир испытание, будущий мир будет его наградой. Долгота времен
вещь относительная. Лучше начать позором и кончить счастьем, нежели быть сначала
счастливым и окончить стыдом. К тому же времена будут торопиться и отныне идти
гораздо скорее, чем в прошлом.
«Если бы человек имел только здешнюю жизнь, — продолжает меланхолический
мечтатель, — то ничего не было бы печальнее его судьбы. Докуда будет
продолжаться торжество нечестия? До каких пор, о Боже, ты будешь давать повод
думать, что твое терпение слабость? Проснись, закрой scheol; запрети ему
отныне вновь принимать умерших, и пусть склады возвратят скрытые в них души.
Вот уже долго, как Авраам, Исаак, Иаков и другие, спящие в земле, ждут, те, для
которых, по твоим словам, ты создал мир! Покажи скорее свою славу, не
откладывай более».
Бог отвечает только то, что времена установлены и их конец недалек.
Мессианические страдания уже начались; но признаки катастрофы будут
изолированными,
частичными, так что люди не смогут их распознать. В тот момент, когда скажут:
«Всевышний забыл землю», когда отчаяние праведников достигнет предела, тогда
наступит время пробуждения. Знамения распространятся по всему миру. Одна
Палестина будет только ограждена от бича. Тогда откроется Мессия; бегемот и
левиафан будут служить пищей для тех, которые будут сохранены. Земля будет
приносить десять тысяч на один: одна виноградная лоза будет иметь тысячу
ветвей, каждая ветвь будет приносить тысячу кистей; каждая кисть будет иметь
тысячу ягод; каждая ягода будет приносить тысячу бочек вина. Радость будет
полная. Утром почувствуется дуновение, исшедшее из груди Божией, которое
принесет благоухание цветов, наиболее изысканных; вечером другое дуновение
принесет спасительную росу. Манна будет падать с неба. Мертвые, которые уснули
в надежде на Мессию, воскреснут. Склады душ раскроются, масса счастливых душ
будет охвачена одним духом; первые будут радоваться; последние не будут опечалены.
Нечестивые будут сохнуть от злости, видя, что время их мучений наступило.
Иерусалим будет возобновлен и увенчан на вечные времена.
Затем нашему ясновидящему представляется римская империя в виде леса,
покрывающего землю; тень от этого леса скрывает правду; все, что есть в мире,
там прячется и находит себе убежище. Это самая жестокая и скверная из всех
следовавших одна за другою империй. Наоборот, мессиаиическое королевство
представлено в виде виноградной лозы, под тенью которой зарождается тихий и мягкий
источник, текущий по направлению к лесу. Приближаясь к последнему, ручьи
превращаются в стремительные реки, которые уничтожают лес и окружающие его
горы. Лес исчез; остался только один кедр. Этот кедр представляет последнего
римского властителя, который остался на ногах после того, как его легионы были
уничтожены (по нашему мнению, это Траян после его неудач в Месопотамии). Он
опрокинут в свою очередь. Тогда виноградная лоза, обращаясь к нему, говорит:
«Это ты, кедр; оставшийся один из всего леса злобы, ты, который захватывал
то, что тебе не принадлежало,
который никогда не имел жалости к тому, что тебе принадлежало, ты, который
хотел царствовать над тем, что далеко от тебя, ты, который держал в сетях
нечестия все, что к тебе приближалось, и возгордился, думая, что ты не можешь
быть вырван с корнем. Вот твой час наступил. Иди, кедр, следуй судьбе
исчезнувшего ранее тебя леса, и пусть ваш прах смешается».
И, действительно, кедр брошен на землю и зажжен. Вождь закован и приведен на
ropy Сион. Там Мессия признает его нечестие, показывает ему злые дела,
совершенные его армиями, и убивает его. Тогда виноградная лоза распространяется
во все стороны; земля покрывается цветами, никогда не вянущими. Мессия
царствует до конца тленного мира. Злые все это время будут гореть в огне, и
никто не будет чувствовать к ним жалости.
О, как велико ослепление людей, которые не сумеют угадать приближение
великого дня! Накануне события они будут жить спокойно и беззаботно. Увидят
чудеса, а не поймут их; пророчества ложные и верные повсюду будут переплетаться
одно с другим. Как псевдо-Ездра, наш ясновидец верил, что будет малое число
избранных и огромное количество осужденных. «Праведники, услаждайтесь вашими
страданиями; за каждый день испытания в этой мире вы получите вечную славу».
Как и псевдо-Ездра, он также наивно беспокоился о материальной трудности
воскресения. В каком виде воскреснут мертвые? Сохранят ли они то же самое тело,
которое имели раньше? Псевдо-Варух не сомневается. Земля возвратит мертвых,
которые были даны ей на хранение, в том виде, в каком она их получила. «Она мне
их возвратит такими, какими я ей их дал». Это необходимо для того, чтобы
убедить неверующих в воскресении; нужно, чтобы они своими глазами убедились в
подлинности тех, кого они знали.
После суда произойдет удивительная перемена. Осужденные станут безобразнее,
чем были раньше; праведники станут прекрасными, блестящими, блаженными; их
фигуры превратятся в блестящий идеал. Страшное бешенство охватит злых, когда
они увидят, что те, которых они преследовали здесь, прославлены выше их. Их
принудят присутствовать на этом зрелище прежде, чем отвести их на
предназначенные мучения. Праведники увидят чудеса; невидимый мир откроется для
них, скрытые времена раскроются, более не будет старости; равные ангелам, подобные
звездам, они смогут превращаться в формы, в какие пожелают; они будут
переходить от красоты к красоте, от славы к славе; все пространство рая будет
для них открыто; они будут лицезреть величие мистических животных, находящихся
у подножия престола, все ангельские воинства ожидают их прибытия. Прибывшие
первыми встретят последних; последние узнают известных им предшественников.
Эти грезы проникнуты по временам светлым здравым смыслом. Псевдо-Варух
более, чем псевдо-Ездра, проникнут жалостью к человеку и протестом против
суровости беспощадной теологии. Человек no сказал отцу: «роди меня», как он и
не сказал scheol: «Откройся, чтобы принять меня». Каждая отдельная
личность отвечает сама за себя; каждый из нас Адам для своей души. Но фанатизм
скоро увлекает его к более ужасным мыслям. Он видит подымающееся из моря
облако, состоящее из последовательных поясов черной и прозрачной воды. Эти
переменные периоды верности и неверности Израиля. Мнения ангела Рамиила,
объясняющего ему эти тайны, полны самого мрачного ригоризма. Прекрасными
эпохами были те, когда избивались грешные нации, когда побивали камнями
иноверных, когда откапывали и сжигали кости нечестивых, когда всякий проступок
против узаконенной чистоты наказывался смертью. Хороший царь, кому создана
небесная слава, тот, который не переносит ни одного необрезанного на земле.
После двенадцати поясов показывается потоп черной воды, смешанный со смрадом
и огнем; это эпоха переходного периода между царствованием Израиля и появлением
Мессии. Время мерзости войн, бичей Божьих и землетрясений. Земля, по-видимому,
будет готова поглотить жителей. Молния (Мессия) сметет все, очистит все,
исцелит все. Презренные, которые переживут Божьи бичи, будут переданы в руки
Мессии, который их убьет. Народы, никогда не угнетавшие Израиля, будут жить.
Народ, господствовавший насильно над Израилем, будет перебит. Среди этих
горестей одна только святая земля будет находиться в покое и будет охранять
своих жителей.
Тогда осуществится рай на земле; не будет более горя, страданий, болезней и
работы. Животные будут служить людям добровольно. Еще будут умирать, но смерть
никогда не будет преждевременной. Женщины не будут чувствовать боли при
рождении детей; будут жать без усилия, строить без утомления. Ненависть,
несправедливость, месть, клевета исчезнут.
Народ принимает с радостью пророчество Варуха. Но справедливость требует,
чтобы евреи, рассеянные в отдаленных странах, не были лишены этого прекрасного
откровения. Варух пишет десяти с половиной рассеянным коленам письмо, которое
он поручает орлу; в этом письме заключается краткое содержание всей книги. В
нем еще более, чем в самой книге, ясно выступает главная мысль автора, побудить
всех рассеянных евреев возвратиться на святую землю, на землю, которая только
одна во время мессианского кризиса представит из себя обеспеченное убежище.
Близок день, когда Бог воздаст врагам Израиля за зло, которое они причинили его
народу. Молодость мира прошла, силы творчества истощены. Ведро близ цистерны,
корабль близ гавани, караван близ города, жизнь близка к концу.
«Мы видим неверные нации благоденствующими, несмотря на то, что они
поступают
нечестиво; но их благоденствие похоже на пар. Мы видим их богатыми, несмотря на
то, что они ведут себя несправедливо; но их богатство будет держаться так же
долго, как капля воды. Мы видим прочность их могущества; хотя они и противятся
Богу; но все это будет стоить не более плевка. Мы любуемся их великолепием,
хотя они не соблюдают предписаний Всевышнего; но это рассеется, как дым..., не
допускайте мысли о том, что принадлежит настоящему; имейте терпение, так как
все нам обещанное прибудет. Не будем задумываться над зрелищем наслаждений,
которыми пользуются чуждые нации. Остережемся, чтобы не быть лишенными
одновременно наследства обоих миров, пленники здесь, мученики там. Приготовим
наши души так, чтобы мы могли отдыхать вместе с нашими отцами а не испытывать
мучения вместе с нашими врагами».
Варух получает обещание, что он будет взят на небо, как Енох, не испытав
смерти. Мы видели, как такая же милость была оказана Ездре автором
Апокалипсиса, приписанного ему.
Произведение псевдо-Варуха, как и произведение псевдо-Ездры, имело у
христиан такой же, если не больший успех, как и у евреев. Греческий оригинал
был утерян очень рано, но был сделан сирийский перевод, который дошел до нас.
Однако, только последнее письмо было принято для употребления в церкви. Это
письмо вошло, как неотъемлемая часть, в сирийскую Библию, во всяком случае, у
иаковитов; из него были взяты места для похоронной службы. Мы видели раньше,
что таким же образом из псевдо-Ездры были взяты для нашей похоронной службы
некоторые из его наиболее мрачных мыслей. Смерть, по-видимому, действительно
господствовала в этих последних плодах фантазии заблудшего Израиля.
Псевдо-Варух — последний писатель апокрифической литературы Ветхого Завета.
Ему была известна Библия, та же самая, которую мы замечаем за Посланием Иуды и
предполагаемый посланием Варнавы, т. е. Библия, в которой к каноническим
книгам Ветхого Завета автор прибавляет и ставит на один с ними уровень книги
недавней фабрикации, подобные откровению Моисея, молитвы Манассии и других
агадических сочинений. Эти произведения, написанные в библейском стиле,
разделенные на строфы, стали некоторого рода дополнением к Библии. Часто,
именно благодаря своему современному характеру, подобные апокрифические
произведения пользовались большей славой, чем древняя Библия, и были
принимаемы, как священное писание на другой день после своего появления, по
крайней мере христианами, более покладистыми в этом отношении, чем евреи. Далее
уже не появляются подобные книги. Евреи не составляют более подделок священных
текстов; с их стороны чувствуется даже боязнь и предосторожность по этому
поводу. Религиозная поэзия, появлявшаяся впоследствии. по-видимому,
преднамеренно была написана в стиле, ничего общего с библейским не имеющем.
Возможно, что беспорядки в Палестине при Траяне послужили поводом к
перенесению beth-din из Явнеи в Уша. Веth-din, насколько
возможно, должен был находиться во Иудее; но Явнея, довольно большой смешанный
город, находящийся недалеко от Иерусалима, мог оказаться неудобным для
жительства евреев, после совершемых ими ужасов в Египте и на Кипре. Уша —
местечко Галилеи, совершенно неизвестное. Новый патриархат имел гораздо менее
блеска, нежели явнейский. Патриарх Явнеи был государем (Nasi); имел некоторого
рода двор; пользовался большим авторитетом, благодаря тому, что дом Гилеля
считал свое происхождение от Давида. С этого же времени высший совет поселился
в бедных деревнях Галилеи. «Установления Уша», т. е. правила, установленные
учеными в Уша, тем не менее, имели огромный авторитет; они занимают весьма
значительное место в истории Талмуда.
Так называемая иерусалимская церковь продолжала свое спокойное
существование, весьма далекое от идей, волновавших нацию. Огромное число евреев
обращалось, продолжая строго соблюдать предписания Закона. Поэтому вожди
вышеупомянутой церкви выбирались из обрезанных христиан, и вся церковь, чтобы
не обидеть ригористов, соблюдала Моисеевы правила. Список этих обрезанных
епископов весьма неточен.
Наиболее известен среди них некто Юст. Споры между обращенными и
упорствовавшими в чисто Моисеевом законе были горячими, но не имели той
остроты, как после Бар-Кохбы. Некто Иуда бен-Накуза в особенности играл
блестящую роль. Христиане старались доказать, что Библия не исключает
божественности Иисуса Христа. Они придирались к слову elohim, к тому,
что Бог в некоторых случаях говорит во множественном числе (как например, книга
Бытия, I, 26), к повторению разных имен Бога и т. п. Евреям было
нетрудно показать, что тенденции новой секты находятся в противоречии с
основными догматами религии Израиля.
В Галилее отношения между обеими сектами были доброжелательные. Один из
иудео-христиан Галилеи, Иаков из Кафар-Шекания, был, по-видимому, в это время
вполне в еврейском мире Сефориса и мелких соседних деревень. Он не только
беседовал с учеными и цитировал им предполагаемые слова Иисуса, но, подобно
брату Господню Иакову, занимался духовной медициной и утверждал, что излечил
именем Иисуса укус змеи. Рабби Елиезер был, как говорят, преследуем за
склонность к христианству. Рабби Иосия-бен-Ханания умер, озабоченный новыми
идеями. Христиане на все лады повторяли ему, что Бог отвернулся от еврейской
нации: «Нет», отвечал он, «его рука еще распростерта над нами». Были обращенные
в его собственной семье; его племянник Ханания, придя в Капернаум, «был
околдован минимами» настолько, что его видели в субботу едущим верхом на осле.
Когда он возвратился к своему дяде Иосии, тот излечил его от заговора при
помощи какой-то мази; но потребовал, чтобы он, покинув землю Израиля, удалился
в Вавилон. В другом месте рассказчик талмудист, по-видимому, старался убедить в
том, что у христиан существуют гнусности вроде тех, которые приписывались
предполагаемому Николаю. Рабби Изей из Кесарии в одно и то же проклятие включал
иудео-христиан, ведших эту полемику, и еретическое население Капернаума, первый
источник всего зла.
В общем минимы, в особенности капернаумские, считались великими магами, их
успех приписывали очарованию и обману зрения. Мы уже видели, что, по крайней
мере, до третьего века, еврейские доктора продолжали лечить именем Иисуса. Но
Евангелие проклиналось; чтение его было запрещено, самое имя Евангелие давало
повод к игре слов, которые означали «очевидная неправедность». Некий Elisa
ben Abou-yah, no прозванью Aher, проповедовал некоторого рода
гностическое христианство и был для своих прежних единоверцев типом настоящего
вероотступника. Мало-помалу иудео-христиане были поставлены евреями на один
уровень с язычниками и гораздо ниже самарян. Их хлеб, их вино считались
оскверненными; их способы изречения были запрещены, на их книги смотрели, как
на каталоги самой опасной магии. В результате оказалось, что церкви Павла
предоставляли желавшим обратиться евреям гораздо лучшее положение, нежели
иудео-христианские церкви, подверженные нанависти иудаизма, на какую только
способны враждующие братья.
Правдивость апокалипсического образа представлялась поразительной. Женщина,
покровительствуемая Богом, церковь, действительно, получила два крыла, чтобы
скрыться в пустыню далеко от волнений мира, от его кровавых драм. Там она
спокойно росла, и все, что против нее не предпринимали, обращалось в ее пользу.
Опасности детства прошли; рост ее был обеспечен.
Приложение. Братья и двоюродные братья Иисуса
Неточность сведений, сообщаемых Евангелиями об обстоятельствах материальной
жизни Иисуса, неопределенность преданий первого столетия, собранных Гегезиппом,
частые омонимы, составляющие постоянные затруднения в истории евреев всех
времен, все это вместе делает почти неразрешимыми вопросы, касающиеся семейства
Иисуса. Если придерживаться синоптических Евангелий, Матфея,
XIII, 55, 56; Марк, VІ, 3, то Иисус имел четырех братьев и
несколько сестер. Его четыре брата назывались Иаков, Иосиф или Иосия, Симон и
Иуда. Из этих имен два, действительно, во всех апостолических и церковных
преданиях, употребляются, как имена «братьев Господних». Личность Иакова, брата
Господня, после личности Павла наиболее ярко изображена первым христианским
поколением. Послание святого Павла к Галатам, Деяния Апостолов, подписи
посланий действительных или приписываемых Иакову и Иуде, историк Иосиф,
эвионитская легенда о Петре, древний иудео-христианский историк Гегезипп, — все
согласно ставят его во главе иудео-христианской церкви. Наиболее подлинным
свидетельством этого служит место в Послании Галатам (I, 19), в котором
ему дается титул αδελφός του
χυρίου. Некто Иуда, по-видимому, тоже имел очень существенные
права на этот титул. Иуда, от которого дошло до нас одно послание, называет
себя αδελφός
'Ιακώβου. Лицо, носящее имя Иаков,
достаточно важное, чтобы им себя определяли и придавали себе авторитет, называя
его своим братом, не могло быть никем иным, как знаменитым Иаковом послания к
Галатам, Деяний, Иосифа, Гегезиппа и псевдо-клементинских писаний. Если этот
Иаков был «братом Господним», то Иуда, настоящий или предполагаемый автор
послания, входящего с канон, тоже был братом Господним. Гегезипп понимал это
именно так. Этот Иуда, внуки которого (υίωνοι)
были разысканы и представлены Домициану, как последние представители рода
Давидова, был для древних историков церкви телесным братом Иисуса. Некоторые
данные дают повод думать, что этот Иуда был, в свою очередь, главой церкви
Иерусалима. Вот таким образом второе лицо включается в список четырех имен,
которые указываются синоптическими евангелистами, как имена братьев Иисуса.
Симон и Иосия неизвестны, как братья Господа. Но ничего нет особенного в
том, что два члена семьи остались в тени. Гораздо более удивительно то, что,
соединив сведения, данные евангелистами, Гегезиппом, более древними традициями
церкви Иерусалима, получается семья двоюродных братьев Иисуса, которые имеют
имена почти такие же, как те, которыми Матфей (XIII, 55) и Марк
(VI, 3) называют братьев Иисуса.
Среди женщин, которых синоптики помещают у подножья креста Иисуса и которые
подтверждают воскресение, находится «Мария, мать Иакова младшего (δ
μνχρός) и Иосии» (Матф., XXVII, 56; Марк,
XV, 40, 47; XVI, 1; Лука, XXIV, 10). Эта Мария, конечно, та
же самая, которую четвертое Евангелие (XIX, 25) помещает также у подножия
креста и которую называют Μαρία ή τoυ
Κλωπα, что, несомненно, означает «Мария, жена Клеопы»,
и которую оно называет сестрой матери Иисуса. Затруднение, происходящее из
того, что две сестры называются одним и тем же именем, не останавливает
четвертого евангелиста, он ни разу не называет мать Иисуса Марией. Что касается
последнего пункта, то мы уже имеем двух двоюродных братьев Иисуса, называемых
Иаковом и Иосией. Далее, мы имеем Симеона, сына Клеопы, которого Гегезипп и
все, передававшие нам воспоминания о первоначальной церкви Иерусалима, называют
вторым епископом Иерусалима и потерпевшим мученичество при Траяне. Наконец,
есть следы четвертого потомка Клеопы, Иуды, сына Иакова, который, по-видимому,
наследовал Симеону, сыну Клеопы, на кафедре Иерусалима. Семья Клеопы как бы
имела в своем наследственном распоряжении управление церковью Иерусалима от
Тита до Адриана, и ничего нет слишком смелого в предположении, что Иаков, отец
Иуды, был Иаковом младшим, сыном Марии Клеопы.
Таким образом, три сына Клеопы назывались Иаков, Иосия и Симеон, точно так
же, как назывались братья Иисуса, упомянутые синоптиками, не говоря уже об
предполагаемом внуке, когда опять повторяется тождество имен; необычайно уже
то, что две сестры носили одно и то же имя. Что же сказать о том, что эти две
сестры имели, по крайней мере, по три сына, носивших те же имена? Конечно, ни
один критик не признает возможности подобного сочетания. Очевидно, необходимо
искать решения, которое дало бы возможность избавиться от этой аномалии.
Правоверные ученые, начиная со святого Иеронима, думают устранить
затруднение предположением, что четыре лица, названные Марком и Матфеем
братьями Иисуса, в действительности были его двоюродными братьями, сыновьями
Марии Клеопы. Но это неприемлемо. Многие другие места подразумевают, что Иисус
имел настоящих братьев и сестер. Обстоятельства маленькой сцены, рассказанной
Матфеем (XII, 54 и след.) и Марком (VI, 2 и след.),
многозначительны. «Братья» непосредственно связаны с «матерью». Рассказ (Марк,
III, 41 и след.; Матфей, XII, 46 и сдед.) еще менее может
быть истолкован двусмысленно. Наконец, все иерусалимское предание хорошо
различает «братьев Господних» от семьи Клеопы. Симеон, сын Клеопы, второй епископ
Иерусалима, называется ανεψιός τoυ
σωτήρος. Ни один из
αδελφοί τoυ
χνρίου не носит после своего имени прибавления του
Κλωπά. Ясно, что Иаков, брат Господень, не был сыном
Клеопы; если бы он им был, то он был бы так же братом Симеона, своего
преемника; однако, Гегезипп так не думает; прочтите главы XI, XXXII 3-й
книги Церковной Истории Евсевия и вы убедитесь в этом. К тому же и хронология
не допускает подобного предположения. Симеон умер очень старым, при Траяне;
Иаков умер в 62 году также очень старым. Значит разница между двумя
братьями должна была быть около 40 лет. Так что система, видящая
αδελφοί τoυ
χορίου в сыновьях Клеопы, неприемлема. Прибавим,
что в Евангелии Евреев, которое часто имеет преимущество перед текстами других
синоптиков, Иисус непосредственно называет Иакова «мой брат», выражение вполне
исключительное и которое не могло быть обращено к двоюродному брату.
Иисус имел настоящих братьев и настоящих сестер. Но возможно, что эти братья
и сестры были только единокровными братьями и сестрами. Были ли эти братья и сестры
также дочерями и сыновьями Марии? Это маловероятно. Братья, по-видимому, были
гораздо старше Иисуса. Между тем Иисус, был, как кажется, перворожденным своей
матери. К тому же, Иисус в своей молодости назывался в Назарете «сыном Марии».
На этот счет мы имеем свидетельство наиболее исторического из Евангелий. Это
предполагает, что он в течение долгого времени был известен, как единственный
сын вдовы. Подобные названия устанавливаются обыкновенно только тогда, когда
уже нет отца и вдова не имеет других сыновей. Приведем в пример знаменитого
художника Пьеро Франческо. Наконец, миф о девственности Марии, не исключая
окончательно возможности, что Мария имела впоследствии других детей от Иосифа
или вышла вторично замуж, лучше согласуется с гипотезой, что она имела только
одного сына.
Конечно, легенда умеет производить всевозможные насилия над
действительностью. Но нужно, вместе с тем,
обратить внимание, что легенда, о которой мы говорим, вырабатывалась в кругу
самих же братьев и двоюродных братьев Иисуса. Иисус, единственный и поздний
плод связи молодой женщины с человеком уже зрелым, представлял удобства для
развития взглядов, согласно которым зачатие было сверхъестественным. В подобном
случае, божественное проявление сказывается тем яснее, чем природа представляется
бессильнее. Предпочитали устраивать рождение детей, предназначенных к великим
пророческим призваниям: Самуила, Иоанна Крестителя, самой Марии, от стариков
или от женщин, долго бывших бесплодными. Так автор Протоевангелия Иакова,
святой Епифаний и другие настаивают на старости Иосифа, конечно, по предвзятым
мотивам, но, несомненно, руководствуются в этом правильными обстоятельствами,
при которых родился Иисус.
Трудность, таким образом, устраняется довольно хорошо, если предположить
первый брак Иосифа, от которого он имел сыновей и дочерей, в особенности Иакова
и Иуду. Эти два лица, по крайней мере Иаков, по-видимому, были старше Иисуса.
Роль, вначале
враждебная, которую приписывают Евангелия братьям Иисуса, странный контраст в
принципах и способе жизни Иакова и Иуды с принципами и жизнью Иисуса при
подобной гипотезе легче объяснимы, чем при других предположениях, которые
делаются с целью выйти из противоречий.
Каким образом сыновья Клеопы приходились двоюродными братьями Иисусу? Они
могли быть таковыми по своей матери, Марии Клеопы, как это утверждает четвертое
Евангелие; или по своему отцу Клеопе, которого Гегезипп называл братом Иосифа;
или с обеих сторон одновременно, так как возможно в крайнем случае, что два
брата женились на двух сестрах. Из этих трех гипотез вторая наиболее
правдоподобна. Гипотеза о двух сестрах, носящих одно и то же имя, чрезвычайно
невероятна. Параграф четвертого Евангелия (XIX, 25) может заключать в себе
ошибку. Прибавим, что согласно весьма затруднительному толкованию, однако,
приемлемому, выражение ή αδελφή
της μητρός
αύτου не относится Μαρία
ή τoυ Κλωπά, а представляет совершенно
отдельное лицо, не названное, как мать Иисуса. Старый Гегезипп, очень
интересовавшийся всем, что касалось семьи Иисуса, по-видимому, хорошо знал правду.
Но как признать, что два брата, Иосиф и Клеопа, имели трех или четырех
сыновей с одними и теми же именами? Рассмотрим список четырех братьев Иисуса,
сообщенный нам синоптиками: Иаков, Иуда, Симон, Иосия. Два первые имеют
настоящие права называться братьями Господня; два последних, помимо двух
параграфов у синоптиков, не имеют за себя никаких данных. Но так как два имени,
Симон или Симеон, Иосия или Иосиф, находятся в списке сыновей Клеопы, то это
приводит нас к следующей гипотезе: в параграфах Марка и Матфея, в которых
перечислены четыре
брата Иисуса, заключается недосмотр; из четырех лиц, названных синоптиками,
Иаков и Иуда действительные братья Иисуса и сыновья Иосифа; что же касается
Симона и Иосии, то они помещены в список по ошибке. Составитель этого
маленького рассказа, как и все агадисты, не гнался за точностью материальных
деталей, и, как все евангелические рассказчики (за исключением четвертого) был
под влиянием размера семитического параллелизма. Потребность фразы могла
привести к перечислению четырех собственных имен для составления нужного
оборота. А так как составитель знал только двух настоящих братьев Иисуса, то он
нашел себя вынужденным присоединить к ним двух двоюродных братьев Иисуса.
По-видимому, в действительности, Иисус имел более двух братьев. «Нe имею ли я
такое же право иметь жену, — говорит святой Павел, — как другие апостолы, как
братья Господни, как Кифа?» Согласно всему преданию, Иаков, брат Господень,
совсем не был женат. Иуда был женат; но этого недостаточно, чтобы объяснить множественное
число, употребляемое святым Павлом. Нужно, чтобы число братьев было
достаточное, дабы, исключив Иакова, святой Павел мог смотреть на братьев
Господних вообще, как на женатых.
Клеопа, по-видимому, был моложе Иосифа. Его старший сын должен был быть
моложе старшого сына Иосифа, и вполне естественно, что если он назывался Иаков,
то в семье его называли ό μικρός, дабы
отличить его от двоюродного брата, носившего то же имя. Симеон мог быть на
пятнадцать лет моложе Иосифа и мог умереть при Траяне. Однако, мы предпочитаем
думать, что потомок Клеопы, замученный при Траяне, принадлежал к другому
поколению. Впрочем, данные о возрасте Иакова и Симеона весьма неточны. Иаков
будто бы умер девяносто шести лет, а Симеон ста двадцати. Последнее утверждение
неприемлемо само по себе. С другой стороны, если Иаков, как утверждают, имел
девяносто шесть лет в 62 году, он должен был родиться
на 34 года раньше Иисуса, что маловероятно.
Остается поискать, нет ли кого из братьев или двоюродных братьев Иисуса в
списках апостолов, которые сообщаются нам синоптиками и автором Деяний. Хотя
коллегия апостолов и коллегия братьев Господа были отдельные группы, однако,
считали возможным, что некоторые из лиц принадлежали к обеим группам. Имена
Иакова, Иуды и Симона, действительно, встречаются в списке апостолов. Это не
касается Иакова, сына Зеведеева, и, тем более, Иуды Искариота. Но что думать об
Иакове, сыне Алфея, которого четыре апостола (Матф., X, 2 и след.; Марк, III,
14 и след.; Лука, VI, 13 и след.; Деяния, I, 13 и след.) считают среди
Двенадцати? Часто отождествляли Άλφαΐος с
Κλωπάς. Это сближение вполне ложно:
Άλφαΐος имя еврейское, а
Κλωπάς или
Κλεοπάς; сокращение
Κλεόπατρος. Иаков, сын
Алфеев, не имеет, следователю, никаких данных считаться среди двоюродных
братьев Иисуса. Евангельский личный состав заключает в себе четырех Иаковов:
один, — сын Иосифа и брат Иисуса, другой сын Клеопы, третий сын Зеведеев,
четвертый сын Алфеев.
Список апостолов, сообщаемый Лукой в своем Евангелии и в Деяниях, заключает
в себе некоего Ίουδας
Ίακώβου, которого хотели отождествить с
Иудой, братом Господним, предполагая, что следовало подразумевать
αδελφός между двумя именами. Нет ничего
более произвольного. Иуда был сыном Иакова, к тому же неизвестного. To же нужно
сказать и о Симоне Зелоте, которого хотели бы без всякого основания отожествить
с Симоном, который помещен (Матф. XIII, 55; Марк VI, 3) среди братьев Иисуса. В
конце концов, кажется, только один из членов семьи Иисуса состоял в коллегии
Двенадцати. Сам Иаков не считался среди них. Мы знаем с точностью имена только
двух братьев Господних, Иакова и Иуды. Иаков не был женат; но Иуда имел детей и
внуков; эти последние предстали перед Домицианом, как потомки Давида и были во
главе церквей в Сирии.
Что касается сыновей Клеопы, то мы знаем троих, из которых один,
по-видимому, имел детей. Эта семья Клеопы после войны Тита пользовалась
преобладающим положением в церкви Иерусалима.
Один из членов семьи Клеопы был замучен при Траяне. После этого ничего не
слышно ни о потомках брата Господа, ни о потомках Клеопы.
[1] Данные Талмуда о положении
Бетара так неточны и так противоречивы, что по ним нельзя прийти ни к какому
заключению. Евсевий (Hist. eccl. IV, VI, 3) разрешает вопрос тем, что
он говорит о расстоянии между Бетаром и Иерусалимом, согласно Аристону де
Пелла, о землях, купленных в Бетаре, предполагает то же расстояние.
[2] Baitor или Betor
Иосии, XV, 60 согласно Семид. Толк. Ныне Битир, маленькая деревня, у
входа в теснину Битир, возле которой находятся развалины, наз. Khirbetel-Sahoud
«еврейские развалины». Расстояние сорок верст от моря, даваемое Талмудами,
подтверждается для Битира. Другое мнение отождествляет Бетар с Beth-schemesch,
основываясь на греческом переводе II Sam. XV, 24, и
I Chron., VI, 59. Beth-schemesch находится в пяти милях от
Иерусалима в направлении к Битиру. Несомненно в голове греческого переводчика
произошла путаница (сравн. Иос. XV, 10 и 60, согласно
Семид. Толк). Что касается предположения, что Бетар находится на севере от
Иерусалима, они опровергаются тем обстоятельством, что продажа пленных Бетара
имела место около Ramet-el-Khalil. Он не нашел настоящее место расположения
Битира соответствующим особенно по снабжению водой тому, что можно вывести из
гипотезы о Битир — Бетар. Но можно сделать те же самые возражения по поводу
места расположения Jotapata, которое, между тем, несомненно. Tobler думал, что
нашел цистерны акрополя. M. Guerin устранил все затруднения, указав, что город,
взятый римлянами, мог заключать в себе современную деревню, акрополь и нижнее
плато, над которым господствовал акрополь. Нужно заметить, что город,
разрушенный римлянами, имел значение только в течение нескольких лет, его
жители были очень бедны, а укрепления импровизированы (Dion Cassius,
LXIX, 12), и, наконец, что рассказы Талмуда полны преувеличений.
[3] Большие земляные работы и
раскопки были проведены только в момент восстания, в 132 г. Dion
Cassius, LXIX, 12.
[4] Иосиф не знал еще книги
Юдифь. А потому, если бы эта книга вышла до 70-го года, то непонятно, как Иосиф
не знал ее, и еще более непонятно, как не зная ее, он не воспользовался этой
книгой, которая затрагивает основную цель, им преследуемую, говорит о героизме
его соотечественников и показывает, что в этом отношении они ни в чем не
уступают ни грекам, ни римлянам. С другой стороны, около 95-го года Климент
Римский (Ad Cor. I, 55 и 59, изд. Philothee Bryenne)
цитирует книгу Юдифь. Следовательно, она составлена около 80-го года.
Государственное устройство евреев, вытекающее из рассказа, должно было
нравиться людям, пережившим революцию 66-го года. Израиль, согласно автору, не
имеет иного правительства, кроме центрального gerovsia и великого
священника.
[5] Греческий текст носит явные
признаки перевода с еврейского, так, напр., III, 9 и в собственных именах
местностей. Халдейский текст, о котором говорит св. Иероним (Proef.), если
и существовал, то не был оригиналом. Изложение св. Иеронима не имеет здесь
никакого значения; только один греческий имеет авторитет. Мы цитируем именно по
греческому тексту.
[6] По-гречески Beteloea или
Baiteoea par itoacisme, для Baiteloa. Имя деревни Betomesfaim (IV, 6)
параллельно Beth-eloah, по-видимому тоже символическое и, кажется, не
обозначает никакого географического места. Из всех многочисленных систем,
придуманных, чтобы придать реальность этой фантастической топографии,
единственно система Шульца имеет некоторое правдоподобие. Betylua в этой
системе будет как Beit-ilfah, на северной горе; и эта система может ли
противостоять возражениям.
[7] Hegesippe
(иудео-христианин) у Евс., Н. Е., II, XXIII, 18. Вероятно,
эта идея была сильно распространена, раз Мара, сын Серапиона, не бывший,
по-видимому, христианином, воспринял ее (Cureton, Spicil. syr.,
стр. 73—74). Этот автор, по нашему мнению, принадлежит ко второй половине
II-го века.
[8] Ее также называют
«благословением саддукеев». Слова саддукеи, философы, эпикурейцы, самаритяне
(koutiim), минимы часто ставятся одно вместо другого в Талмуде. Первое слово в
проклятии по еврейскому ритуалу oulem(als)inim (предатели) заменили словом
ouleminim прибавкой двух букв. Миним в действительности означает саддукеев.
[9] Юлий Африкан, кажется, был
в сношениях с назарянами и слышал от них устные предания.
[10] Видна аналогия с hadith
Магомета. Но так как Магомет оставил после себя подлинную книгу, Коран, которая
раздавила все своим авторитетом, то законы, которым обыкновенно следуют
составители устных преданий, были искажены; hadith не смогли создать священный
свод законов. Если бы Иисус написал книгу, евангелисты не существовали бы.
[11] Синай, Мория,
Теу-прозопон (Фануель) в Финикии и т. д.
[12] Имя Фавор исчезло в
греческих Евангелиях. Оно снова появилось в преданиях, начиная
с IV века.
|
|
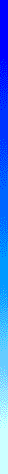
|

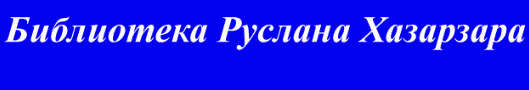

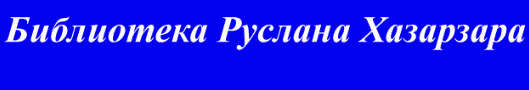
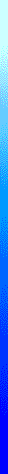
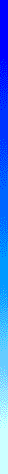



 230 Kb
230 Kb