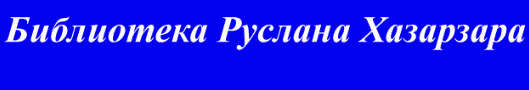
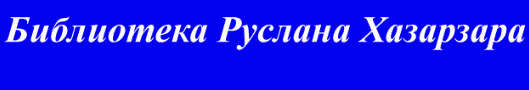 |
Филон Александрийский. Против Флакка; О посольстве к Гаю;
Иосиф Флавий. О древности еврейского народа; Против Апиона. —
Москва – Иерусалим: Еврейский университет в Москве
(Библиотека Флавиана, выпуск 3), 1994. — Стр. 15–50.

Вслед за Сеяном[2] преследование евреев продолжил Авилий Флакк. Правда, обидеть весь народ, как сделал тот, он оказался не в силах, ибо не обладал могуществом Сеяна, но уж тех, до кого добирался, терзал страшно, не разбирая, кто перед ним. Впрочем, даже если его нападки казались избирательными, то распространялись на всех, главным образом благодаря искусству Флакка, а не силе, ибо если человек по природе своей деспотичен, но слаб, ему на помощь приходит изобретательность.
Так вот, этот самый Флакк, принадлежавший свите Тиберия[3], был назначен наместником Александрии и Египта после кончины своего предшественника Ибера[4]. Он обладал многими приметами исключительной натуры: настойчивостью, упорством, острым умом, последовательностью в решениях и поступках, готовностью к беседе и способностью увидеть за словами суть дела. Он быстро входит во все дела египтян, а ведь они весьма сложны и запутанны, так что даже те, кто был посвящен в них с давних пор, вникали с трудом. Помощников у него было без счета, ибо даже мельчайшего дела не оставлял он пристальным своим вниманием, так что не только превзошел всю эту премудрость, но вследствие своей вдумчивости и деловитости сам стал наставником своих недавних учителей. Считать доходы и распоряжаться ими он умел отлично, но не в этих делах, важных, конечно, и необходимых, проявлялась властная его натура, а сам он откровенно являл все признаки личности сильной и царственной: держался он с большим достоинством и важностью, ибо гордость в высшей степени украшает правителя; разбирал вместе с высокопоставленными лицами только значительные дела; осаживал не в меру кичливых; не допускал, чтобы всякий сброд объединялся для противостояния властям; запретил сообщества и союзы, где жертвоприношенья были только прикрытием пирушек и дела решались на пьяную голову, а всех участников взнуздал как следует.
Потом, когда его трудами и город, и вся страна исполнились законопослушания, он принялся мало-помалу, но тщательно и неуклонно подтягивать армию: муштровал пехоту, конницу, легковооруженные войска; внушал полководцам, что, отбирая жалованье у своих воинов, они толкают их тем самым на разбой и грабежи; каждого воина учил исполнять свой долг в соединении с заботою о том, что он стоит на страже мира.
Мне могут ответить: “Да что ты, почтенный, ума решился? берешься человека обвинять, а сам не приводишь ни единого обвинения, сплетая вместо этого венок славословий!” О нет, досточтимый друг, я вовсе не сумасшедший и не какой-нибудь глупец, неспособный рассуждать последовательно и разумно. Да, я славлю Флакка, но вовсе не затем, чтобы соблюсти приличье, но для того, чтобы представить его порочность в самом ярком свете; ибо простительно, когда человек заблуждается, не зная правильного пути, но тот, кто сознательно преступает закон, тот не имеет права на защиту, но предстает перед судом совестя уже приговоренным.
Флакк был у власти шесть лет, и первые пять лет, пока Тиберий был жив, он хранил мир и правил столь деятельно, что превзошел всех своих предшественников[5]. Но на шестой год, когда Тиберий скончался и скипетр самодержца достался Гаю[6], Флакк стал выпускать из рук бразды правленья — или потому, что скорбел по Тиберию (а то, что он горевал по умершему как по самому близкому человеку, было ясно: унынье, слезы, ручьями бегущие из глаз, как будто из открывшихся в них источников); или потому, что питал неприязнь к преемнику Тиберия из-за глубокой преданности его родным, а не приемным детям; или потому, что вспомнил, как вместе с другими нападал на покойную мать Гая[7], когда ей предъявляли обвиненья, ставшие причиной ее гибели, и страх перед расплатой заставил его забыть служебный долг.
Впрочем, какое-то время он крепился, еще не выпуская вожжи из рук, но когда он узнал, что внук Тиберия и дольщик верховной власти[8] убит по приказу Гая, то просто рухнул, сраженный этим роковым несчастьем, лежал, не размыкая уст, я хуже того — рассудок совершенно отказался ему служить. Покуда мальчик был жив, Флакк не терял уверенности, но смерть Тибериева внука разрушила все его надежды, и последним упованием осталась помощь Макрона[9] (с ним Флакк был дружен), всемогущего приближенного Гая, который внес значительную лепту в борьбу Гая за власть и неустанно искал ее сохранения, ибо Тиберий неоднократно намеревался убрать Гая с дороги (мол, нрава он скверного и не рожден для власти; к тому же Тиберий боялся, что за его, Тиберия, смертью неотвратимо последует смерть внука), Макрон же всякий раз рассеивал подозренья Тиберия и превозносил Гая: мол, он прямой, чистый, щедрый и, разумеется, признает все преимущества двоюродного брата, так что, пожалуй, охотно уступит ему всю власть или, во всяком случае, главенство. Тиберий, поддавшись, сам не заметил, как примирился с присутствием того, кто был смертельным врагом и ему самому, я внуку его, и всему дому, и собственному своему ходатаю Макрону, и всему роду человеческому. Ибо Макрон, увидев, что Гай переступил границы дозволенного и движим лишь собственными необузданными порывами (к чему угодно и какими угодно), стал вразумлять и увещевать его, думая, что перед ним все тот же Гай, что и до кончины Тиберия,— послушный и добрый, но за непомерную свою благонамеренность этот несчастный заплатил сполна: от него избавились вместе со всем домом его, женой и детьми как от тяжкого груза и докуки. Ибо всякий раз, завидев Макрона, Гай говорил: “Сотрем улыбку с уст, потупим взоры — идет наставник, поборник прямоты, новоявленный воспитатель зрелого мужа и самодержца”.
И вот, узнав, что с этим человеком покончено, Флакк впал в совершенное отчаяние и утерял способность вести дела, ибо решительность и твердость суждений покинули его, А ежели правитель отчаивается в своих силах, то подданные тотчас распускаются, а в особенности приходят в возбужденье те, кому оно свойственно по малым и случайным поводам.
И тут египтяне стоят на первом месте, ибо никто быстрее их не может раздуть из искры пламя бунта. Флакк, оказавшись в столь трудном и даже безвыходном положении, заметался и совершенно переменил свой прежний образ действий (а между тем и мыслительные его способности ослабли!), начавши с ближайшего своего окружения; благонамеренных и расположенных он стал подозревать и гнать, а с записными своими врагами, напротив, примирился и спрашивал их совета во всех делах. А они, отнюдь не утратив былой злобы, лишь сделали вид, что переменились, а на самом деле остались непримиримы и мстительны и, разыгрывая сцены неподдельной дружбы, завладели Флакком совершенно. И стал правитель — подданным, а подданные — владыками; они не только выдвигали самые вредные предложенья, но тотчас утверждали их. Это был Дионисий[10], прихвостень толпы, Лампон-крючкотвор, Исидор[11] — предводитель черни, сутяга, злодей, возмутитель городов, как называли его чаще всего; они беспрепятственно осуществляли свои решения, и Флакк был нужен им для прикрытия, как бессловесная фигура в маске правителя, но не обладающая властью.
И вот они все вместе замыслили страшное для евреев дело и в личной беседе с Флакком сказали так: “Погибли все твои упования на мальчика Тиберия, пропала и вторая твоя надежда — твой друг Макрон; от самодержца добра не жди. А потому нам нужно найти тебе заступника, который лучше других сумеет умилостивить Гая. И этот заступник — город александрийцев: его всегда чтил дом Августов, а нынешний наш владыка — особенно, и если ты одаришь чем-нибудь александрийцев, они вступятся за тебя. Пожертвуй им евреев — и лучшего подарка не надо”.
За этакие речи Флакк был бы должен проклясть и возненавидеть этих людей как смутьянов и врагов общественного блага, однако он поставил свою подпись под их словами. Сначала его нападки были не слишком заметны: он перестал быть беспристрастным судьей в различных спорах, склоняясь только к одной из тяжущихся сторон; он отнял у евреев право голоса: стоило кому-то из них приблизиться, он уходил от разговора и делался неприступен — но только для евреев; потом стал откровенно враждебен.
В своем безумии, которому он предался более по наущению, чем по природной склонности, Флакк укрепился еще более благодаря одному событию. Гай Цезарь вручил Агриппе[12], внуку паря Ирода, царство — треть дедовых владений, ту самую, которую взял дядя Агриппы по отцу — тетрарх Филипп[13]. Агриппа готов был плыть туда, но Гай отсоветовал ему плыть до Сирии из Брундизия[14]: мол, далеко и тяжело, а лучше идти коротким путем через Александрию, дождавшись летних пассатов, — оттуда, дескать, можно быстрее добраться на грузовых судах, и рулевые, там самые опытные, и суда послушны им, как лошади на скачках, и потому идут прямо по курсу. Агриппа послушался — отчасти подчинившись господину, отчасти согласившись с добрым советчиком.
И вот Агриппа спускается к Дикеархее[15], видит в гавани александрийские суда, готовые к отплытию, садится со своими людьми на судно и, проведя с приятностью несколько дней в пути, достигает места нежданным и неузнанным, а рулевым дает распоряженье (был уже вечер, когда показался Фарос[16]) спустить паруса и стоять на рейде за Фаросом, не слишком, однако, удаляясь от него, а с наступленьем ночи войти в гавань, дабы он, Агриппа, мог сойти на берег, когда все уже разойдутся спать, и без свидетелей явиться в дом, где собирался остановиться. Обставив свое посещение Александрии столь скромно, Агриппа хотел, если получится, и покинуть ее тайно от жителей, ибо явился на этот раз не для обозренья Александрии (он был здесь раньше, когда направлялся в Рим к Тиберию), но только чтобы добраться до своих владений коротким путем.
Александрийцев же распирало от зависти (племя египтян весьма завистливо): они вообще считали чужую удачу несчастьем для себя, а тут были движимы старой и, можно сказать, врожденной ненавистью к евреям и так досадовали, что еврея сделали царем, как будто кого-то из них лишили трона предков. А сотоварищи Флакка снова принялись подзуживать его, стараясь вызвать в нем ту же зависть, которая снедала их самих: “Его прибытие — твое крушенье: тебя не удостаивали столь пышных почестей, все взгляды он приковал к себе великолепьем армии своих телохранителей, оружие которых покрыто серебром и золотом. И нужно ли ему было являться в земли, вверенные Другому, когда он мог бы с попутным ветром спокойно доплыть До дома? А если он сделал это с разрешенья или, скорее, под давленьем Гая, он должен был бы молить о прощении за то, что явился сюда, дабы достоинство правителя страны не потерпело ущерба”.
Такие речи привели Флакка в еще большее возбуждение, и если на людях он играл роль преданного друга Агриппы, ибо боялся того, кто послал его в Александрию, то у себя изливал свою ревность и ненависть и срамил Агриппу заглазно, поскольку в глаза не отваживался. Зато он побудил на это ленивую и праздную александрийскую толпу (она понаторела в злоязычии, проводя досуг в наветах и поношеньях) — то ли сам своею бранью, то ли через своих вечных помощников в таких делах. И вот александрийцы, получив благословение, целыми днями упражнялись в насмешках и издевках над царем, беря уроки у сочинителей мимов и разных шуточек, что ясно показывало природную склонность этих людей к безобразному: усвоить прекрасное они были неспособны, а потому с готовностью и легкостью учились обратному.
Но почему же Флакк не возмутился, не отдал их под арест, не наказал за наглое злословье? И разве не был достоин Агриппа какого-то особого вниманья и почестей, даже не как царь, но как человек, близкий Цезарю? Нет, все неопровержимо доказывает, что Флакк был соучастником преступных поношений Агриппы ибо если он мог наказать или хотя бы удержать этих людей, нс не сделал этого, значит, он пособничал и потворствовал им. А стоит только толкнуть толпу на ложный путь, она не остановится, но устремится дальше, все больше изощряясь в пороках.
Был там один безумец по имени Карабас[17]; его помешательство не было буйным и жестоким (приступы такого безумия обычно непредсказуемы и для тех, кто им подвержен, и для окружающих), но более тихим и кротким. Этот Карабас дневал и ночевал под открытым небом, нагой и совершенно равнодушный к жаре и к холоду, служа забавой праздным юнцам Пригнав несчастного к гимнасию, его поставили на возвышенье, чтобы всем было видно, соорудили из папируса нечто вроде диадемы, тело обернули подстилкой, как будто плащом, а вместо скипетра сунули в руку обрубок папирусного стебля, подобранного на дороге. И вот он, словно мимический актер, обряжен царем и снабжен всеми знаками царского достоинства, а молодежь с палками на плечах стоит по обе стороны, изображая телохранителей. Потом к нему подходят: одни — как бы с изъявлениями любви, другие — как будто с просьбой разобрать их дело, а третьи — словно прося совета в государственных делах. Потом в толпе, стоящей вокруг него кольцом, поднимаются крики; Карабаса величают Марином[18] (так у сирийцев зовется господин), ибо всем было известно, что Агриппа сам родом из Сирии и что значительная ее часть входят в состав его владений.
Все это слыша или, скорее, видя, Флакк должен был бы и безумца взять под стражу, дабы тот не подавал повода для нападок и оскорбленья вышестоящих лиц, и тех, кто так вырядил его, наказать за то, что они осмелились и словом, и делом, и открыто, и исподтишка оскорблять царя, друга Цезаря, человека, получившего от римского сената все знаки преторского достоинства[19]. Однако он не только не наказал их, но даже не счел необходимым их удержать; напротив, он их простил и примирился с этими злонамеренными людьми, притворившись, что не видит того, что видит, и не слышит того, что слышит. Почувствовав это, толпа (не тa, что предана законам и обществу, но та, в чьем ревностном стремлении к недостойной жизни, в чьей неисправимой лени и праздности — а это вещт коварные! — коренятся смятение и беспорядок) с самого утра стеклась в театр, и Флакк, славолюбивый и продажный, принял оказанные ему жалкие почести в ущерб не только собственной, но и общественной безопасности, ибо толпа требовала неслыханного и противозаконного — водрузить в молельнях статуи[20]. Требуя этого, они схитрили (ибо в порочных делах эти люди были весьма сообразительны), прикрывшись именем Цезаря, а уж его в неблаговидных намерениях не обвинишь.
А что же тем временем правитель страны? Он знал, что двояко население Александрии и всего Египта: есть мы, и есть они, что не менее миллиона евреев живет в Александрии и по всей стране от ливийской пустыни до рубежей Эфиопии; он сознавал, что покушается на всех них, что пагубно расшатывать старинные устои, однако пренебрег всем этим и позволил поставить скульптуры в молельнях, хотя имел прямую возможность предотвратить это — или приказом начальника, или советом друга.
Но Флакк был заодно с этими людьми во всех их постыдных делах, и данную ему исключительную власть употребил злостно, разжигая распри и давая огню все новую и новую пищу, и всюду, куда простиралась его власть, разгорелась междуусобная вражда Не мог он не понимать, что весть об осквернении молелен[21] сразу дойдет из Александрии до египетских номов[22], помчится от Египта к востоку и восточным народам, от Гипотайнии и Мареи[23], где начинается Ливия, к западу и народам западным, ибо племя иудейское столь многочисленно, что одна земля не может вместить его. Потому обретаются евреи во многих благоденствующих землях — европейских и азийских, островных и материковых, почитая своей изначальной родиной Святой Город, где водружен верховный храм Всевышнего; однако отечеством своим они почитают либо те земли, в которых родились и выросли, унаследовав их от отцов, дедов, прадедов и более далеких предков, либо те края, куда отселились в пору их освоения и были радушно приняты основателями[24]. И потому происходящее в Александрии могло и повсеместно подтолкнуть людей оскорблять сограждан своих евреев, посягая на их молельни и расшатывая древние устои[25]. И не могли евреи, сколь ни отпущено им миролюбия и терпения, с подобным смириться — не потому только, что обычаи свои люди берегут и охраняют, не страшась даже и смерти, но и потому, что евреи — единственные из всех живущих под солнцем, — с потерей молелен теряют возможность благоговейно чтить своих благодетелей, от которой ни один еврей не откажется и под страхом десятков тысяч смертей. Так вот, утратив святилища, где может излиться благодарение, они могли бы сказать своим недругам так: “Вы в слепоте своей не видите, что лишаете почета наших господ, а вовсе не преумножаете его, не понимаете, что у евреев всего мира благоговенье перед домом Августа имеет средоточие (нет в том сомненья) в молельнях, и если мы лишимся их, то где и как сможем явить свое преклонение? Ведь если мы пренебрегаем тем, что наш обычай устанавливает, будет справедливо взыскать с нас по всей строгости за то, что мы не возвращаем долг сполна. Но если мы избегаем того, что наши законы запрещают (а нерушимость их была любезна самому Августу), есть ли тут хоть малая наша вина? Единственным порицаньем для нас может служить то, что если и по чужой воле изменили мы установленным обычаям, то все равно вина ложится на нас, потому что дозволенные нам границы мы сами и переступили”.
Но Флакк молчал о том, что должно было сказать, а говорил о чем не следовало — в этом он и грешен перед нами. Те же, кому он угождал, каковы были их соображенья? Воздать почести самодержцу? Но разве в Александрии недоставало храмов? В Александрии, где столько посвящено богам! Воистину люди, преисполненные ненависти, коварны и вероломны в своих злоумышлениях: обидчиков не разоблачишь, а обиженным сопротивляться опасно. Ибо бесчестно, добрые люди, ниспровергать законы, подрывать древние устои, злоумышлять против своих сограждан и соседей соблазнять презреньем к согласию.
Итак, первое покушенье Флакка на наши законы как будто удалось — он лишил нас наших молелен, не сохранив даже их имени. Тогда он предпринял второе наступленье — на наше гражданство, чтобы мы, утратив то, на чем только и зиждилась наша жизнь,— обычаи отцов и равные со всеми гражданские права, лишились твердой почвы под ногами и погрузились в трясину несчастий. Ибо спустя несколько дней Флакк издает указ: считать нас отныне чужаками и пришлыми, осудив нас тем самым без суда, не давши слова сказать в свою защиту[26]. Не самая ли откровенная это тирания? Флакк сам стал обвинителем, истцом, свидетелем, судьей и палачом и к двум своим грехам прибавил третий, позволив всем желающим грабить евреев словно жителей завоеванного города. И что же эти люди, заранее прощенные, творили?
Александрия поделена на пять кварталов, названных по первым буквам алфавита; два из них зовутся “еврейские”, ибо в них обитает большинство евреев, которых, впрочем, немало рассеяно и в прочих кварталах. Что же было сделано? Выселяв евреев из четырех кварталов, грабители согнали их в один, самый маленький. Но евреев было так много, что им пришлось расселиться по побережьям, свалкам и кладбищам, ибо они лишились всего, чем обладали. А гонители совершали набеги на их дома, теперь пустые, и грабили, распределяя добро как военную добычу. Они ворвались и в мастерские евреев, закрытые в знак скорби по Друзилле[27], и беспрепятственно вынесли оттуда все ценное (а этого было немало), причем тащили через рыночную площадь, распоряжаясь чужим имуществом как своим. Но еще более ужасным злом стало прекращение источников дохода, ибо всем — земледельцам, морякам, торговцам, мастеровым — было запрещено заниматься привычным делом, так что нищета наступала с двух сторон: во-первых, грабежи, в один день лишившие их всего имущества, а во-вторых, невозможность зарабатывать на жизнь привычным делом.
Все это, однако, меркнет в сравнении с тем, что случилось потом. Конечно, бедность горька, особенно проистекающая от вражеской руки, но оскорбленья, пусть мелкие, гораздо горше. Страданья же, выпавшие на нашу долю, настолько превосходили всякую меру, что слова “оскорбленье” или “глумленье” в их точном смысле тут неприемлемы, да и вообще, мне кажется, нет слов, способных описать невиданную жестокость наших гонителей, в сравнении с которой даже отношение победителей к побежденным на войне, когда безжалостность естественна, покажется мягким. Те, кто одержал победу, расхищают имущество побежденных и во множестве угоняют их в плен, но и сами рискуют тем же в случае поражения. К тому же пленников тысячами отпускают за выкуп, внесенный родными или друзьями, — не из склонности к состраданию, но будучи не в силах устоять перед деньгами. “И что же, — мне скажут, — ведь если людям посчастливилось спастись, совсем неважно, каким путем пришло спасенье”. Да и погибших в сражениях сами враги — если они благородны и человечны — не лишают права погребения и совершают его на свой счет. Когда же сохраняется ненависть и к мертвым, возвращают их тела согласно договору, чтобы не лишить погибших последней милости, положенной им по праву. Так поступает неприятель на войне. Теперь посмотрим, что совершили с добрыми согражданами и в мирное время.
Ограбленные, лишенные крова, изгнанные из большинства кварталов Александрии, евреи очутились как бы в кольце врагов — беспомощные, мучимые отсутствием самого необходимого; на их глазах женщины и дети умирали от голода среди цветущих, щедро напоенных половодьем возделанных полей, в избытке приносивших плоды. Не в силах более терпеть нужду одни пошли (против обыкновения) к друзьям и родственникам, прося на жизнь, другие, чей благородный дух чурался попрошайничества как рабьей доли, недостойной свободного человека, решились, несчастные, пойти на рынок, чтобы достать еды себе и домашним. А попав в руки черни, тотчас бывали они убиты, я трупы их тащили через весь город, топча и превращая в месиво, так что и предать земле было бы нечего. И много тысяч других страдальцев уничтожали изощрившиеся в изуверстве, доведенные собственной свирепостью до зверского состояния недруги: стоило кому-то из евреев где-то появиться, его тотчас побивали камнями или кольями, стараясь при этом не задевать жизненно важных органов, с тем чтобы страданья жертв продлить подольше. Иные, упоенные полной безнаказанностью, выбирали только самые жестокие орудия — железо и огонь, и многих порубили мечами, немало и пожгли. Вообразите, целые семьи: мужья и жены, родители и дети были преданы огню посреди города — не щадили безжалостные ни стариков, ни молодых, ни младенцев невинных; а если не хватало дров, они, собравши хворост, душили несчастных дымом, и те умирали в еще более чудовищных муках, и было страшно видеть груду полусожженных тел. А если и хвороста недоставало, тогда дровами служила утварь самих несчастных, похищенная из домов: конечно, что получше тащили себе, а что похуже сжигали вместе с владельцами. А многих, еще живых, тащили за ногу, привязав веревку к лодыжке, и одновременно топтали; над теми, кто умер такою дикой смертью, эти люди продолжали глумиться с не меньшей яростью: не было улочки в Александрии, по которой не протащили бы труп, покуда кожа, мясо и сухожилия не истирались о неровную и каменистую поверхность земли, покуда все части, когда-то составлявшие единство, не отрывались друг от друга и тело не превращалось в ничто.
При зтом убийцы разыгрывали из себя страдальцев, а родственников и друзей страдальцев подлинных только за одно сочувствие к близким хватали, бичевали, колесовали, а после всех мучений, которым только можно подвергнуть человека, их ждала последняя из казней — крест.
И когда не осталось для евреев ни щелочки, ни уголка, куда не проникла бы изощренная ненависть Флакка. он задумал нападенье с другого фланга, этот великий изобретатель беззаконий. А дело в том, что наш спаситель и благодетель Август после кончины генарха[28] создал для попечения над всеми иудейскими делами Совет старейшин, поручив это соответствующим распоряжением Магию Максиму[29], которому предстояло (во второй уже раз) стать наместником Александрии и Египта. Так вот, тех членов Совета, которых застали дома (числом тридцать восемь), Флакк тотчас заключил в оковы и торжественно провел через самое сердце города — кого связанным ремнями, кого закованным в цепи; потом загнал в театр, устроив зрелище в высшей степени жалкое и нелепое: поставил старцев против скамей, где расселись истязатели, чтобы полюбоваться их позором, и приказал бить кнутами по голым телам (такому поруганью обычно подвергают самых ужасных преступников), при этом одних забивая быстро, других заставляя мучиться долго.
Величие этого коварного замысла обнаружило себя и по-другому, но с той же очевидностью, и то, что я сейчас скажу, подтвердят это. Трое из Совета старейшин — Эвод, Трифон и Андрон[30] — остались нищими: грабители разом лишили их всего имущества, и Флакк отлично знал об этом — его уведомили, когда он посылал за нашими начальниками в прошлый раз, будто бы для того, чтобы примирить их с остальными горожанами[31]. И все же, точно зная, что этих людей полностью обобрали, он бил их на глазах самих грабителей, чтобы одни вдвойне терзались — и нищетой, и уннженьем, другие же наслаждались вдвойне — и обретением чужого богатства, и вкусом позора разоренных ими людей.
Не знаю, стоит ли приводить тут одну подробность тех событий, боюсь, она покажется мелкой и незначительной, зато малость ее покажет, сколь велика была злоба этих людей. В Александрии для наказаний используют различные орудья в зависимости от положенья наказуемых: одними кнутами бьют египтян, и есть для этого особые люди, другими, плоскими — александрийцев, и палачи их — сами александрийцы[32]. Такой обычай соблюдался всегда и в отношении нашего народа предшественниками Флакка, а в первые годы — и самим Флакком. Ведь и лишенный гражданских прав может сохранить частицу гражданского достоинства, а оскорбленный — частицу гордости, когда дела разбираются по справедливости и без привнесения личной злобы, которая лишает наказанье необходимой его части — сочувствия.
И всего непереносимее, что евреев среднего сословья били теми кнутами, какими обычно наказывали свободных и полноправных граждан, важных же лиц — старейшин, так именуемых по возрасту своему и положению, унизили, истязая орудиями, предназначенными для египтян низшего сословия, причем виновных в тягчайших преступлениях.
Не говорю о том, что даже если бы они совершили десятки тысяч преступлений, Флакку подобало бы перенести казнь, ибо честно правящие, преданные и от души почитающие своих благодетелей имеют обыкновение откладывать наказание осужденных, покуда не кончатся всенародные празднества в честь дня рождения кого-то из славных Августов[33]. А Флакк в такие дни преступил закон, покарав невинных, хотя я мог отложить столь желанную расправу. Но он спешил и торопил события, желая подольститься к черни, ненавидевшей евреев, и заставить ее поддержать его замыслы.
Я знаю, что в канун таких дней порой снимали с креста тела распятых и отдавали родным, чтобы те предали их земле, свершив положенный обряд, чтобы и мертвым в день рождения самодержца воздалась какая-то крупица блага и чтобы не нарушить священного величия празднества.
А Флакк не то, что не приказал снять с креста мертвых — он приказал распять живых, которым сами те дни даровали прощенье — не навсегда, на время, не волную отмену наказания, но его отсрочку. И это он сделал после позорного бичевания в театре, после пыток огнем и железом. На несколько частей делилось представленье. Первая часть его длилась с рассвета до трех или четырех часов: евреев били кнутами, подвешивали, колесовали. увечили — отсюда, с середины орхестры, вступили они на смертный путь, а после этого великолепного зрелища на орхестру вышли плясуны, мимы, флейтисты — словом, все, кто забавляет нас во время театральных состязаний.
Впрочем, довольно об этом. Второю частью представленья были грабежи: Флакк собирался двинуть на нас вооруженных солдат, а ради оправдания своих намерений придумал такое: мол, говорят, что евреи прячут у себя оружие. И вот Флакк посылает за центурионом по имени Каст[34] (этот Каст пользовался у Флакка наибольшим доверием) с приказом, взяв самых храбрых своих солдат, без промедденья и предупрежденья начать обыски в домах евреев — а вдруг там целые склады оружия! Каст, как обычно, ревностно взялся за дело. Сначала евреи, не зная, что против них замыслили, стояли, оцепенев, а жены их и дети, прижавшись к матерям, рыдали, боясь, что их схватят,— этим, они думали, все и должно завершиться.
Но кто-то из солдат спросил: “Где тут у вас оружие?” Тогда все немного перевели дух, предоставили солдатам все осмотреть своих жилищах, одновременно радуясь (не придется даже опровергать эту клевету — все станет ясно само собою) и огорчаясь (во-первых, из-за того, что все легко поверили в такую чудовищную ложь, измысленную их врагами, а также потому, что женщины их, которых держали взаперти, не подпуская даже к дверям, и девушки, которые не покидали своих комнат, стыдясь и избегая взоров мужчин, даже своих домашних, предстанут не просто перед незнакомцами, но перед воинами, наводящими страх).
Но вот тщательный обыск закончен. И сколько же оружия тут найдено? Доспехи? щиты? кинжалы? мечи? Все это грудами вытаскивали из наших домов? А может, еще метательное оружие — копья, пращи, луки, стрелы? Нет, ничего, даже ножей, используемых на кухне, — вот сколь проста была жизнь этих людей, избегавших любых излишеств, потворствующих желаниям и поощряющих их необузданность, в которой коренятся все пороки.
А ведь незадолго до этого некий Басс[35] по поручению Флакка производил изъятье оружья по всему Египту: тогда в речные гавани входили вереницей корабли, груженные самым разным оружием, шли вьючные животные, нагруженные связками копий, свисавших для равновесия по обоим бокам, из лагеря пригнали почти все повозки, которые двигались одна вслед другой и заполнили всю дорогу и каждая была полна оружья всех возможных видов, а расстояние между гаванями и дворцовым арсеналом, куда свозилось оружие, составляло около десяти стадиев. Конечно, стоило обыскивать дома тех, кто держал всю эту гору военного снаряжения, ибо они нередко поднимали мятежи, их вечно подозревали в готовности к перевороту, и нужно было бы учредить в Египте новое празднество сбора оружия, которое происходило бы трижды в год по образцу священных состязаний, чтобы египтяне или не успевали изготовлять оружие, или хотя бы делали немного, не имея времени восполнить изымаемое.
Но мы-то почему должны терпеть такое? Когда подозревали нас в измене? Нет, нас всегда считали самыми миролюбивыми, весь уклад жизни нашей был безупречен в соблюдении законов и сохранении порядка в городе. Да имей евреи оружье, разве ушли бы они из более чем четырехсот домов, изгнанные на улицу грабителями? И почему же не обнаружилось оружья среди отнятого у евреев имущества? Нет, все это был зловредный вымысел Флакка и александрийской черни, жертвой коего стали и наши жены: их, словно пленниц, хватали не только на рыночной площади, но даже в театре во время представленья, затаскивали (не знаю уж, какую числя за ними вину!) прямо на сцену, самым ужасным образом глумясь над ними. Потом, бывало, убедившись в ошибке (тогда хватали многих, не разобравшись как следует, какого они роду-племени), отпускали, но если ошибки не было, все зрители превращались в палачей: требовали принести свинину и кормить ею несчастных. Одни, боясь расправы, ели, тогда их отпускали, не мучая более; иные оказывались более стойкими, тогда их отдавали в руки палачей на поруганье, и это неопровержимо доказывает их полную невиновность.
К тому же Флакк пытался строить козни нашему народу не только своими руками, но и руками самодержца. Вот как было дело. Мы постановили воздать Гаю все почести, которые только были возможны и дозволялись законами[36]; потом, приведя это в исполнение, представили свое постановленье Флакку с просьбой отправить посольство к самодержцу от своего имени, если уж он не дозволил нам отправить собственных наших послов. Флакк прочитал, согласно кивая головою на каждой строчке с улыбкой удовлетворения (а может, просто притворяясь довольным), потом сказал: “Хвалю вас за благочестие и, разумеется, отправлю ваше посланье самодержцу, как вы и просите, или сам буду вашим послом — пусть Гай узнает вашу благодарность. Я выражу и собственное мненье о вас, ничего не прибавляя к обильным свидетельствам вашей порядочности и законопослушания, ибо одной правды будет довольно, чтобы восхвалить вас”.
Мы радовались этим обещаниям и благодарили так, как будто уже исполнились надежды и Гай прочел наше постановленье. И это было не так уж невероятно, ибо все послания, Которые передавались лично наместником, властитель разбирал без промедленья. Но Флакк, сказав “прости!” и нашим замыслам, и собственным посулам, оставил наше постановленье у себя, дабы народ наш один на всей земле сочтен был врагом самодержавной власти. Кто мог так действовать? Да только тот, кто долго, неусыпно и тщательно строил нам козни, и вовсе это не был порыв безумья, внезапно налетевший и на время затмивший разум.
Но Бог, радея о человечестве, похоже, возымел к нам жалость и отверг все льстивые и хитрые слова, которыми коварно обманул нас этот человек, отверг и ту выдумку его преступного ума, в которой ковались злые замыслы, и вскоре дал нам основанье думать, что наши надежды не будут обмануты.
Ибо когда Агриппа был в Александрии[37], мы говорили с ним, поведали о злоумышлениях Флакка, и тот исправил дело: взял наше постановленье, заверив, что перешлет его, и, насколько нам известно, сделал это, сопроводив словами извиненья за задержку: мол, евреи вовсе не медлили постичь науку преклоненья перед домом благодетелей, напротив, с самого начала стремились показать, что превзошли ее, но происки наместника лишили их такой возможности. И тут вступила в бой сообщница и союзница всех несправедливо обиженных, карающая безбожных людей за их безбожные поступки, — справедливость[38]. Во-первых, Флакк был подвергнут неслыханному унижению в ввергнут в пучину таких несчастий, которых не знал никто из прежних наместников, с тех пор как власть над сушей и над морем досталась дому Августа. Ибо и при Тиберии, и при отце его Цесаре[39] иные должностные лица, бывало, превращались из заботливых стражей во властных деспотов, и тогда вся страна тонула в неистребимом зле: царило взяточничество, грабеж, неправедные суды; невинных карали изгнанием и ссылкой, влиятельных людей уничтожали без суда; когда же кончался срок службы и эти люди возвращались в Рим, самодержцы требовали у них отчета об их делах, особенно если яз городов, где попирались законы, являлись послы. Ибо тогда самодержец становился судьей, равно беспристрастным к обеим сторонам: никто, считалось, не должен быть осужден без суда, а справедливый суд сообразуется не с чувством приязни и неприязни, но с чистой истиной.
Арест же Флакка происходил так. Он полагал, что смог развеять подозрения, имевшиеся у Гая за его счет, — отчасти своими посланиями, исполненными лести, отчасти речами, с которыми он выступал повсюду, сплетая подхалимство с фальшивыми хвалами, отчасти тем глубоким уважением, которое питало к нему, как думал он, большинство горожан. Однако Флакк не знал, что все это самообман, ибо упования людей порочных обычно бывают ложны: они обретают обратное тому, за что надеялись, — и совершенно ими заслуженное.
Из Рима лично Гаем был послан центурион Басс[40] с отрядом солдат. Сев на корабль — один из самых быстроходных, — он через несколько дней вечером приблизился уже к александрийским гаваням у Фароса[41]; он отдал рулевому приказ дрейфовать до захода солнца, ибо хотел явиться в Александрию незамеченным, боясь, что Флакк, прознав о его прибытии, предпримет что-нибудь, способное воспрепятствовать осуществлению его, Басса, планов. С наступлением темноты корабль пришвартовался в гавани. Басс со своими людьми сошел на берег и двинулся вперед, никем не узнанный я никого не узнавая, а встретив по дороге солдат из караульных четверок, велел показать ему дом главнокомандующего[42] — Басс хотел доложить о тайных предписаниях, которые имел, дабы заручиться его поддержкой на случай, если потребуется действенная помощь. Узнав, что главнокомандующий вместе с Флакком пирует у кого-то. Басе столь же стремительно направился к дому Стефания, где собрались пирующие (этот Стефаний был вольноотпущенником Тиберия[43]), и немного не доходя до дома, выслал вперед одного из своих людей, переодев его слугой, с тем чтобы никто ни о чем не догадался. Тот вошел в пиршественный зал под видом слуги кого-то из пирующих, все осмотрел и возвратился к Бассу с подробным рассказом. Узнав, что вход не охраняется, а Флакка сопровождает совсем немного людей, всего десять — пятнадцать прислужников-рабов, Басе дает своим спутникам знак и вместе с ними врывается в дом, а часть воинов с мечами, занявших положенье вдоль стен пиршественного зала, окружает Флакка, застав его врасплох, ибо в эту минуту он пил за здоровье какой-то особы и изливал свое расположенъе к присутствующим. Когда же воины расступились и вперед вышел Басе, Флакк, увидав его, застыл от изумления, потом пытался встать и тут заметил вокруг себя стражу. Тогда он понял до всяких объяснений Басса, что хочет с ним сделать Гай, с каким приказом явились эти гости и что ожидает его в блиажайшем будущем, ибо человек отлично может и уме своем заранее предугадать то, чему только предстоит случиться. А сотрапезники Флакка поднялись со своих лож, одни дрожа, другие застыв от страха, что их как-нибудь накажут за то, что пировали вместе с Флакком бежать же было небезопасно, даже невозможно, ибо все входы уже были заняты воинами Басса. Самого же Флакка Басс приказал увести. Так начался его последний путь, и справедливо было, что суд над человеком, из-за которого в десятках тысяч домов невинных людей погасли очаги, начался у очага.
Такая вот небывалая вещь случилась с Флакком: в стране, которой он управлял, его пленили, как на войне, и, думается, это случилось из-за евреев, которых он желал стереть с лица земли. Свидетельством тому явилось и время ареста, ибо у евреев на дни зимнего равноденствия приходится праздник, когда всем полагается жить в шатрах[44]. Однако в этот раз не видно было даже приготовлений к празднеству: старейшины[45], перенесшие смертные муки и невыносимое глумление, томились в темнице, для простых граждан несчастья старейшин стали всенародным горем, к тому же все были глубоко угнетены собственными бедами. Ибо страдания, выпадающие на праздничные дни, имеют свойство удваиваться для тех, кто не может праздновать:
во-первых, они лишаются веселия души. сообразного празднику, во-вторых, печаль, в которой они пребывают из-за невозможности спастись от неотвратимых бедствий, передается другим. И пока все, придавленные грузом невыносимой тоски, сидели по домам (уже спускалась ночь), явились какие-то люди с известием об аресте Флакка. Но все решили, что их просто испытывают, и еще больше затосковали из-за того, что им казалось издевкой и коварством. Однако вскоре в городе поднялась суматоха, сновала ночная стража, какие-то всадники метались между городом и лагерем, и тогда иные из евреев вышли на улицу узнать, что происходит, ибо понятно было, что это нечто необычайное. Когда же они узнали, что Флакка действительно арестовали и заключили в темницу, то, воздевши руки к небесам, принялись гимнами и пеанами славить Бога, который надзирает за всеми делами человеческими: “Владыка, — говорили они, — мы не злорадствуем, видя, что наш враг наказан, — наши священные законы учат сочувствию, однако наша благодарность к тебе законна: ты возымел к нам жалость и сострадание, избавив нас от бесконечной депи бедствий”. Так в гимнах и песнопениях прошла вся ночь, а на рассвете все хлынули через ворота на побережье (ибо молелен у них больше не было) и, вставши на открытом со всех сторон месте, все хором возгласили: “Великий Царь бессмертных и смертных, мы призываем землю и море, воздух и небо, все части Вселенной и всю ее целокупно вместе с нами воздать тебе хвалу и благодарность, — за этим мы явились сюда, только здесь мы обрели приют, когда потеряли все рукотворное, когда лишили нас родного города, и жилищ наших, и мест общественных собраний, когда единственные на всей земле остались мы без крова и очага по воле злонамеренного правителя. Ты даешь нам добрые знамения, что все попранное восстанет, ибо Ты уже снисходишь к нашим мольбам, коли недруга нашего, чьим наущением и водительством творилось наше горе, а его, как возомнил он, — слава, внезапно низверг, и не вдали где-то, так что узнали бы мы, его жертвы, обо всем стороною, со слов других, но здесь же, почти на глазах несправедливо обиженных, чтобы явить им столь скорое и неожиданное наказанье”.
Но было и третье событие, произошедшее, мне кажется, по воле божественного провидения. Путь Флаккя в Рим начался ранней зимою, ибо, конечно, было суждено ему натерпеться страхов, связанных с морской дорогой, — ему, чьи безбожные дела проникли в каждую частицу Вселенной и, претерпев тысячи бедствий, с большим трудом добрался он до Италии, и там на него тотчас же набросились с обвинениями два его злейших врага — Исидор и Лампон[46], которые еще недавно были у него в подчинении, величая его владыкой, спасителем и благодетелем и другими подобными титулами, теперь же стали сводить с ним счеты со рвением неизмеримо большим — не только потому, что преисполнились отваги, которую рождает сознанье собственной правоты, но потому еще (и это гораздо важнее), что знали, как ненавидит Флакка тот, кто вершит все дела человеческие. “Конечно, — думали они, — наш Цезарь примет обличье судьи, чтобы предупредить все обвиненья в неправосудии, однако на деле будет непримиримым врагом, который до всякого суда уже вынес в душе своей самый тяжкий обвинительный приговор”.
Что может быть хуже для сильных мира сего, чем выслушивать обвинения нижестоящих: подданные изобличают правителя — не подобно ли это тому, что рабы, взращенные в доме или купленные, судят своих хозяев?
Но это было бы, пожалуй, еще не так страшно, если бы просто бывшие подданные вдруг изготовились, соединили усилия и напали с обвинениями. Эти же люди давно уже, почти с тех пор, как Флакка сделали наместником Египта, были его злейшими врагами. Лампона судили за оскорбление величества, и за два года, пока тянулось дело, он совершенно отчаялся. Ибо злокозненный судья медлил, желая опутать подсудимого цепями страха перед неясным будущим и продержать в них как можно дольше, сделав тем самым жизнь подсудимого мучительнее смерти, пусть даже в конце концов он будет оправдан. Потом, когда оказалось, что Лампон выиграл дело, он стал говорить, что совершенно разорен: его хотели сделать гимнасиархом[47], а он или по скаредности не желал тратиться и просто оправдывался тем, что, мол, в средствах стеснен и столь больших расходов позволить себе не может, или на самом деле не имел достаточно средств; во всяком случае, прежде он любил поговорить о своем богатстве, покуда не дошло до дела, однако проверка показала, что Лампон не слишком богат, а почти все, что имеет, приобрел незаконным путем. Ибо пока правители вершили суд, он находился подле, ведя записи как секретарь, а потому мог произвольно опускать одно и добавлять другое, что вовсе не говорилось; бывало, он изменял уже сделанные записи, все переделывая, перекраивая и искажая первоначальный смысл, а за каждый слог или, скорее, за каждый значок этот крючкотвор взыскивал деньги. Народ единодушно и метко прозвал его “писарь-палач”, ибо своей рукою он обрек на смерть десятки тысяч людей, а жизнь иных сделал страшнее смерти: те, что могли бы выиграть дело и даже разбогатеть, проигрывали и разорялись, что было в высшей степени несправедливо, а помощь их противникам оказал тот, кто по дешевке спускал чужое добро. Те же, кто управлял такой огромной страной, конечно, не могли держать в уме всю груду больших и мелких судебных дел, притом, что она росла день ото дня; к тому же эти люди не только исполняли обязанности судей, но разбирали отчеты о государственных доходах и податях, а это занимало большую часть года[48]. Лампон же, поставленный следить за неприкосновенностью величайшего сокровища — справедливости — и основанных на ней благочестивых решений, наживался на забывчивости судей: беря мзду как плату за свою продажность, он записывал побежденных в победители и наоборот.
Таков был Лампон, выступивший с обвинением против Флакка, а другой его обвинитель, Исидор, был ничуть не менее порочен: заискивающий перед чернью, жаждущий ее благосклонности, понаторевший в учинении различных беспорядков и смут, враждебный спокойствию и миру, великий мастер затевать мятежи и бунты, направлять их и разжигать, всегда стремившийся окружить себя всяким разношерстным сбродом, который, впрочем, делился на группировки — как бы такие подразделения[49].
Есть в Александрии сообщества, весьма многочисленные и выросшие не на здоровой почве, но на пьяных возлияниях, хмельной гульбе и порождаемой всем этим похоти; жители называют их “сходками” и “ложами”[50]. Во всех этих сообществах (или, по крайней мере, в большинстве из .них) первую роль играет Исидор, которого зовут “председателем пира”, “председателем ложа” и “возмутителем спокойствия”. И когда ему приходит охота сотворить что-то гадкое, все члены сообщества, собравшись по одному его знаку, и говорят, и делают все, что им велено. Однажды, досадуя на Флакка за то, что тот сначала отнесся к нему серьезно и почтительно, а потом уже не проявлял такого внимания, Исидор приказал своим наемным соратникам и подпевалам, привыкшим к тому же сбывать свои наветы всем, кто имеет довольно средств, чтобы их купить, собраться в гимнасии. И те, заполнивши гимнасий, безо всякого повода накинулись на Флакка, изобретая немыслимые обвинения, сплетая гирлянды лживых слов[51], так что не только Флакк, но и все прочие были изумлены и предположили (и с полным основанием!), что есть некто, ради которого все это делается, и что сами обвинители — отнюдь не жертвы Флакка я отлично знают, что и никому другому в городе он ничего дурного не делал. Власти решили арестовать некоторых из них и выяснить причину столь беспочвенного и внезапного взрыва безумия и бешенства. Арестованные безо всяких допросов открыли истину и дали показания о размерах условленной платы и о том, какую часть они уже получили, сколько обещали им выплатить потом, кому поручено распределение денег, сообшили, где и когда они получили эту мзду.
Все были возмущены и очень боялись, что безрассудство отдельных жителей ляжет пятном на город, и Флакк решил с утра собрать всех самых уважаемых и почтенных граждан и перед ними выставить подкупленных свидетелей, дабы изобличить Исидора и защитить свое правление от несправедливых нападок. Однако на зов его явились не только знатные, но и простые граждане, за исключеньем тех, кого должны были изобличить в мздоимстве. Этих последних, столь отличившихся, поместили на возвышение, чтобы отовсюду они были видны и каждый мог их узнать. Из их показаний следовало, что виновником всех беспорядков и наветов на Флакка был Исидор и что он истратил много денег и вина, чтобы погубить того, кого втайне ненавидел.
“Иначе откуда, — говорили они, — взять нам такую уйму денег? Ведь мы бедны, с трудом сводим концы с концами. За что стали бы мы мстить правителю? Нет, только Исидор виновник и творец всего произошедшего, он вечно завидует успехам и счастью других и ненавидит спокойствие и право”.
Узнав правду, установив виновника, причины и цели его деяний, собравшиеся стали требовать его наказания, призывая кто к лишению его гражданских прав, кто к ссылке, кто к казни. Сторонников последней меры было большинство, потом к ним присоединились остальные, и вот уже все в едином порыве закричали, что надобно казнить этого душегуба, который с тех пор, как выдвинулся и был допущен к государственным делам, на жизнь города повлиял пагубно и тлетворно.
Исидор, чья совесть не была чиста, бежал, боясь ареста, но Флакк нимало не был этим обеспокоен, считая, что добровольное удаление этого человека положит конец раздиравшим город мятежам и распрям.
Не в память былых обид пустился я в эти подробности, но в изумлении перед вечным соглядатаем всех дел людских — справедливостью: именно злопыхателям Флакка, коим издавна был он ненавистен, посчастливилось обвинять его, дабы унижение Флакка стало вовсе непереносимым — ведь нет ничего страшнее, чем быть судимым заклятыми врагами. И дело не только в том, что бывший правитель был обвинен своими подданными, что обвинителями его явились злейшие враги, чья жизнь еще недавно находилась всецело в его руках, но в том, что он был осужден и сломлен дважды, ибо потерпел поражение под злорадный смех врагов, а это для человека со здравым умом страшнее смерти.
Градом обрушились на Флакка всевозможные несчастья: его немедленно лишили состояния — и унаследованного от родителей, и нажитого им самим: имея большой вкус к украшениям и нарядам, он богатство свое не держал под спудом, но вкладывал в приобретение изысканных и совершенных вещей — это были чаши, наряды, покрывала, другая утварь, словом, все, что служит для украшенья дома; к тому же и слуг он выбирал красивых, здоровых и способных отменно выполнять свои обязанности, и каждый из них отличался в том деле, к которому был приставлен, так что считался первым среди других мастеров или вообще не имел соперников.
И есть тому неопровержимое доказательство: в то время, как имущество десятков тысяч осужденных распродавалось, имущество Флакка сберегли для самодержца, за исключением каких-то мелочей, дабы не вовсе нарушить закон, касавшийся всех осужденных по таким делам. Лишив Флакка имущества, его приговорили к ссылке, изгнав не только с материка — а это бóльшая и лучшая часть мира, — но и с островов из числа процветающих, ибо сослали его на самый жалкий остров в Эгейском море — Гиарой[52] он зовется, однако ходатайство Лепида[53] помогло изгнаннику сменить Гиару на Андрос (это ближайший сосед Гиары). Так что Флакк снова проделал путь из Рима в Брундизий[54] (совсем немного лет прошло с тех пор, как этим путем он отправлялся в Египет и Ливию, назначенный наместником этих двух стран), и довелось тогдашним свидетелям того, как горделиво он выступал, раздувшись от своего успеха, опять увидеть его уже опозоренным. На него указывали пальцами, его поносили, но куда сильнее терзала его крутая перемена всей жизни, ибо пламя его беды разгоралось, питаемое все новыми и новыми несчастьями, подобно новым приступам застарелой болезни, заставлявших вспомнить о прежних неудачах, которые, он думал, покрылись забвением.
Пересекши Ионийский залив, Флакк был отправлен морем к Коринфу, что доставило много радости жителям прибрежных городов Пелопоннеса, узнавшим о внезапной перемене его судьбы. Ибо как только он сходил на берег, тотчас же сбегались люди; дурные — ради глумления, хорошие, способные извлечь из участи другого благие уроки, — ради сочувствия. От Лехея[55] он прошел через Истм[56] в спустился к Кехрее[57], коринфской гавани; тут стражи, не дававшие ему ни единой передышки, тотчас же посадили его на маленькое грузовое судно, и при сильном встречном ветре, испытав тысячи мук, он едва дотащился до Пирея[58]. Когда же непогода утихла, Флакк двинулся вдоль Аттики до Суния[59], а там стал перебираться с острова на остров: с Елены на Кеос, оттуда на Китн[60], и так остров за островом, покуда не добрался до места назначения — Андроса.
Вид острова исторг у нечестивца потоки слез, которые ручьями стекали по щекам его, и, бия себя в грудь, он возопил: “О, люди, вы, кто надзирает за мною и кто сопровождает меня! И этот прекрасный Андрос, и этот злосчастный остров заменит мне благословенную Италию, мне, Флакку, который был рожден, и вскормлен, и воспитан в великолепном Риме, мне, Флакку, которому привелось быть школьным товарищем и добрым знакомцем внучек Августа, мне, который считался одним из самых близких друзей Тиберия, мне, которому на целых шесть лет был вверен Египет, лучшее из его обретений?! Что сталось со мною? Как в дни затмений, на жизнь мою средь бела дня спустилась ночь. Как назову я этот островок? Прибежищем? иль новою отчизной? иль, может быть, случайным и злосчастным убежищем? О нет, могилой ему пристало зваться! Ведь приближаясь к нему, я сам себе служу могильщиком, но мне неведомо, оборвется ли сразу моя жалкая жизнь под тяжким молотом страданий, или суждена мне смерть долгая и мучительная”.
Так Флакк оплакивал свою судьбу. Но вот суденышко пристало к берегу, и Флакк сошел, пригибаясь к земле, как человек, влачащий непосильный груз, так был он придавлен своими несчастьями; он то ли был не в силах поднять голову, то ли не имел смелости взглянуть на встречавших его и на зевак — те и другие стояли по обеим сторонам дороги.
Сопровождавшие Флакка люди представили его народному собранью, дабы все жители Андроса засвидетельствовали прибытие ссыльного на остров. На этом обязанности сопровождавших кончались, и они отбыли, а Флакк, не видя вокруг себя уже ни одного знакомого липа, стал мучиться еще сильнее, ибо он совершенно ясно увидел свою судьбу и окруженный кольцом отчуждения думал о том, что если бы он принял смерть от чьей-либо руки на родине, то в сравнении с нынешним его положением это было бы даже не меньшим злом, а просто благом. Он заметался как безумный: подпрыгивал и бегал взад-вперед, стискивал руки, хлопал себя по бедрам, падал на землю и беспрерывно говорил: “Я, Флакк, еще недавно я правил Александрией, великим городом, или, лучше сказать, многоградием, я был наместником счастливейшей страны — Египта, и взоры тысяч и тысяч жителей были обращены ко мне, мне подчинялись не просто бесчисленные, но превосходные войска — пехота, конница и флот, меня в моих ежедневных разъездах сопровождала многотысячная свита. Но, может быть, все это ложь, игра воображенья? Быть может, я спал, и радость тех дней только снилась мне? Быть может, я видел призраки в пустоте, и это все моя душа измыслила и запечатлела небывшее как бывшее? О да, я обманулся, то были тени вещей, не сами вещи, подобия, виденья, а вовсе не ви́денье, разоблачающее ложь! Ведь пробудившись, мы не находим вокруг себя того, что видели во сне, — все разом разлетается; так и весь тот блеск, который некогда мне довелось созерцать, угас в одно мгновенье”.
Такие вот мысля одолевали Флакка, выбивая его, если можно так выразиться, из седла: стыд, отныне постоянный его спутник, не позволял ему являться в многолюдных местах, и он не мог ни в гавань спуститься, ни выйти на рыночную площадь, отсиживался в доме, не смея даже выйти во двор.
Бывало, правда, чуть свет, покуда люди еще не покинули свои ложа, он выходил тайком за городскую стену и проводил весь день один, а стоило кому-то появиться, он тотчас отворачивался, предупреждая возможную встречу, и душу его снедали воспоминания о недавних бедах. И только глубокой ночью он возвращался, моля богов в своей безмерной и бесконечной тоске; “Пусть вечер станет утром!”, ибо несчастный мучительно боялся темноты и странных видений, которые являлись, когда случалось ему уснуть, а на рассвете он снова просил о ночи, ибо мрак, в котором он пребывал, противился всяческому свету.
Спустя несколько месяцев Флакк приобрел кусочек земли и там проводил много времени в полном одиночестве, стеная и оплакивая свою участь. И вот рассказывают, что как-то около полуночи он, словно богоисступленный корибант, покинул дом, обратил взоры к небу и звездам и, постигая в их стройности суть мирового порядка, воскликнул: “О Царь богов и людей, поистине небезразличен тебе народ иудейский, и сам этот народ не обманулся в промысле Твоем, а те, кто говорят, что евреи не видят в Тебе защитника и союзника — те далеки от истины. Порукою тому — я сам, ибо все то, что я в безумии своем направил против евреев, досталось мне самому. Я разрешил разграбить их имущество, дав расхитителям полную волю, — теперь я сам лишился того, что унаследовал от матери, отца, того, чем благосклонно одарили меня, словом, всего, что я имел. Я возводил на них напраслину (мол, чужаки они бесправные, хоть были они законными гражданами) только для того, чтобы порадовать их недругов, всю эту свору, так обманувшую меня своею лестью, — теперь я сам лишился всяких прав, изгнан из мира, где обретаются люди, и заперт здесь. Кого-то из них я пригнал в театр и отдал на поруганье, а зрителями сделал их злейших врагов — теперь я сам, терпя страшные надругательства, от коих не тело мое страдало, но бедная душа, прошел не через орхестру, но через всю Италию, вплоть до Брундизия, через Пелопоннес вплоть до Коринфа, через всю Аттику, все острова до Андроса, где ныне моя темница. И это не конец моих бедствий, я знаю, — меня ждут новые и новые, покуда их тяжесть не уравновесит груза содеянного мною. Кого-то из евреев я уничтожил сам, кого-то убивали другие, и я не чинил препятствий убийцам. Кого-то побивали камнями, кого-то сжигали живьем или тащили по рыночной площади, покуда тело не истиралось в прах. За это, я знаю, Кары ожидают меня, и духи мщения уже стоят, словно бегуны у меты, и жаждут моей крови, и каждый день, вернее, каждый час я умираю, я принимаю множество смертей вместо одной, последней”.
Нередко Флакка охватывал ужас: все члены и части его тела дрожали, душа замирала от страха, задыхалась и корчилась, ибо не стало у него того единственного, что только и способно дать человеку утешенье в жизни, — благой надежды. И птицы не давали ему благоприятных знамений, все только недобрые, и голоса не предвещали хорошего, и бодрствовать ему было невыносимо, и сон его страшил, и одинок он был, как затравленный зверь. Но, может быть, он жаждал жить среди людей? Нет, пребыванье в городе было для него невыносимо. Быть может, сельское уединенье, столь часто порицаемое, давало ему покой? Нет, оно было откровенно тревожным, “Вот этот, так тихо подходящий ко мне, — он подозрителен; должно быть, он что-то замышляет против меня! А этот ускоряет шаг — конечно, строит мне козни! А этот, который так откровенен со мной, — конечно, он презирает меня! Да, меня кормят и поят — как жертву для заклания. И долго ли я еще буду закалять свое сердце для борьбы со всеми этими бедами? Но и смерть страшит меня, ибо мой зловредный демон не допустит, чтобы жалкая моя жизнь оборвалась мгновенно, — всю груду зла, содеянного мною, он бережно хранит, дабы доставить радость тем, кого я умертвил с таким коварством!”
Флакк думал об этом бесконечно и метался в страстном ожидании конца, ибо душа его выворачивалась наизнанку от непрерывных мук. Гай же был по природе своей жесткосерден и жадно мстителен: он не прощал однажды наказанных, как это делают другие, — нет, гнев его был нескончаем, и он изобретал для жертв все новые и новые несчастья; а Флакка он ненавидел особенно, и само имя “Флакк” было ему отвратительно, так что на всех, носящих это имя, взирал он с подозрением. И Гай нередко думал с сожалением: “Ну почему он сослан, а не казнен?!”, и стал обвинять во всем (правда, не без стыда) его защитника Лепида[61], и Лепид сразу пошел на попятный, страшась наказания: он, видно, испугался, что, облегчив приговор другому, отягчит собственную участь. Когда же не осталось никого, кто бы осмелился просить за Флакка, гнев Гая вышел из берегов и не только не утихал с течением времени, как это обычно бывает, но вскипел все больше — так приступы болезни накатывают на человека все с большей силой. Рассказывают, что однажды ночью он лежал без сна и размышлял о высокопоставленных ссыльных: вот, думал Гай, считается, что их судьба плачевна, но это только видимость, а на самом деле в их жизни просто не стало хлопот, она спокойна и поистине свободна. А потому их положенье нужно называть не ссылкой, но проживанием на чужбине[62]: “Такие люди, — стал говорить он, — не знают недостатка ни в чем необходимом, не имеют хлопот и могут жить вполне благополучно, а потому все это вовсе не ссылка, а просто проживание на чужбине; и странно, что все они вкушают роскошь мирной и философской жизни”.
Так поразмыслив. Гай отдал приказ: всех самых видных и знаменитых ссыльных казнить, и предоставил список имен, который возглавил Флакк.
Когда будущие палачи Флакка явились на Андрос, тот как раз возвращался из деревни в город, и посланцы Гая из гавани двинулись ему навстречу. Они увидели друг друга издалека, и Флакк тотчас же понял, зачем спешат к нему эти люди (ведь сердце человеческое — лучший пророк, особенно в несчастьях), свернул с дороги и кинулся прочь, не разбирая пути. Наверное, он забыл, что это остров, а не материк, и можно бежать сколь угодно быстро — все равно море преградит путь. А тут уже придется выбирать — или кидаться в море, или быть схваченным на самом краю. Из этих двух зол, конечно, меньше последнее — лучше погибнуть на земле, чем в море, ибо природа дала для обитанья людям и прочим сухопутным существам не воду, а землю, и не только живым, но даже умершим, дабы земля сама принимала их, когда они рождаются на свет и когда уходят из жизни навсегда.
Преследователи одним прыжком нагнали Флакка и схватили его. Одни тотчас же стали рыть яму, другие силой тащили Флакка, который неистово сопротивлялся, кричал, а потому то и дело натыкался на мечи, подобно пойманному зверю, и весь был изранен, ибо он так тесно сплелся с убийцами, что не давал им направить удар, и те кололи куда попало; так Флакк сам усугубил свои страданья: руки, ноги, голова, грудь, бока — все было рассечено, и он лежал, как будто приготовленный для жертвоприношенья. Так справедливость пожелала уравнять число ударов, нанесенных Флакку, с числом беззаконно убитых им евреев. Все вокруг Флакка было залито кровью, бившей ключом из его жил, рассеченных на части. Когда же труп потащили в яму, он тотчас же распался, ибо сухожилия, связующие тело в единое целое, были разорваны.
Все эти испытания, выпавшие на долю Флакка, явились вернейшим доказательством того, что еврейский народ не обойден вниманием и опекой Всевышнего.
[1] Флакк — Авл Авилий Флакк (? – 38 г. н.э.), наместник Египта с 32 г. по 38 г. н.э.
[2] Сеян – Луций Эмилий Сеян (? – 31 г. н.э.), сын Луция Сея Страбона, египетского наместника, главный советник императора Тиберия; с 23 г. н.э. – начальник преторианской когорты и фактический ее организатор. В «Посольстве к Гаю» (гл. 24) Филон утверждает, что Сеян имел план истребления всех евреев.
[3] Тиберий – император Тиберий Юлий Цезарь Август (42 г. до н.э. – 16 марта 37 г. н.э.). Был провозглашен императором в 24 г. н.э. и правил до смерти.
[4] Ивер – (? – 32 г. н.э.), вольноотпущенник Тиберия, временный наместник Египта; Марк Антоний Ибер, консул 133 г. н.э. был, вероятно, его потомком.
[5] Подробно об этом см. A. Stein, Die Prafekten von Aegypten. — Bern, 1950.
[6] Гай — император Гай Юлий Цезарь Германик (Калигула) (12 г. – 41 г. н.э.).
[7] Мать Гая — Агриппина, дочь Марка Випсания Агриппы и Юлии, дочери Августа (14 г. до н.э. – 33 г. н.э.). Была обвинена в попытках посягнуть на устои государства и сослана в 29 г. на о-в Пандатерия. Согласно одной версии, Агриппина сама уморила себя голодом; согласно другой — ей просто отказали в пище, что и послужило причиной ее гибели (см. Светоний, «Тиберий», 53; Тацит «Анналы» VI. 31).
[8] Подразумевается Тиберий Гемелл, отцом которого был Друз, сын Тиберия. В отличие от Гемелла, Гай был не внуком, а внучатым племянником Тиберия, т. к. отцом его был Германик, племянник Тиберия. Гемелл был убит в 37 г. или 38 г. н.э. Гаю в ту пору было около 25 лет. Подробно об убийстве Гемелла см.: «Посольство к Гаю» (гл. 4). У Светония находим ту же версию, что предлагает Филон, — согласно этой версии, Тиберий оставил двух равноправных наследников своей власти — Гая и Гемелла. Иосиф Флавий, однако, приводит данные, согласно которым Гай был единственным наследником самодержавной власти (см.: Светоний, idem, 76; Иосиф Флавий, Antiquit. XVIII. 211‑224).
[9] Макрон — Невий Сертоний Макрон (? – 38 г. н.э.). Содействовал Тиберию в борьбе с Сеяном (см. выше прим. 2) в 32 г. н.э. и занял место начальника преторианской когорты после ареста Сеяна. В последние шесть лет жизни Тиберия пользовался огромным влиянием при дворе. Подробно о его взаимоотношениях с Гаем и гибели см.: «Посольство к Гаю», гл. 6‑8.
[10] Дионисий — обычно отождествляется с Дионисием, сыном Феона, упомянутым в письме императора Клавдия. Об этом подробнее см.: Bell H. I. Jews and Christians in Egypt. – 1924. – p. 23.
[11] Исидор и Лампон — упомянуты в одном папирусном фрагменте, где Исидор именуется гимнасиархом (см. ниже, прим. 47). Об этом фрагменте подробнее: Philo Alexandrinus. Les oeuvres de Philon d’Alexandrie. — P., 1967, v. 31, p. 31. О двух этих персонажах речь пойдет и дальше, в гл. 16–17. Об Исидоре говорится и в «Посольстве к Гаю» (гл. 45).
[12] Агриппа — иудейский царь Агриппа I (10 г. н.э. – 44 г. н.э.), внук Ирода Великого. Биографию Агриппы сообщает Иосиф Флавий (Antiquit. XVIII. 6). Сам Филон пишет о нем подробнее в «Посольстве к Гаю» (гл. 35–42). В Александрию Агриппа прибыл в июле–августе 38 г. н.э.
[13] Тетрарх — греч. τετραρχία (“тетрархия”) изначально обозначало каждую из четырех административных областей, на которые делилась Фессалия. Термин продолжал употребляться и в римскую эпоху, но уже расширенно, как обозначение некой области, находящейся под властью одного лица (тетрарха). После смерти Филиппа, дяди Агриппы по отцу, Тиберий “аннексировал” его владения в состав провинции Сирии. Эти земли и достались Агриппе.
[14] Брундизий — самый значительный город Калабрии после Тарента; одна из лучших гаваней побережья Адриатического моря. Здесь кончалась Аппиева дорога, и отсюда обыкновенно отправлялись в Грецию.
[15] Дикеархея — историческое название Путеол; приморский город в Кампании; превосходная гавань.
[16] Фарос — небольшой остров у побережья Александрии; был соединен дамбой с материком и александрийской гаванью.
[17] Карабас — ближе неизвестен. Имя, вероятно, арамейское.
[18] Слово является транслитерацией арамейского, означающего “господин”. Арамейское обращение к иудейскому царю имеет, конечно, издевательский характер.
[19] Знаками преторианского достоинства были: тога-претекста (белая тога с пурпурной каймой, носить которую могли высшие должностные лица и юноши, не достигшие совершеннолетия), курульное кресло (скамья из слоновой кости, позднее — из мрамора, на которой восседали высшие должностные лица во время различных публичных событий), эскорт из шести ликторов.
[20] Молельни — синагоги. Устанавливать в них “кумиры” (скульптурные изображения) императора пытались александрийцы.
[21] Буквально: “об уничтожении (κατάλυσις) молелен”. До сих пор Филон говорил только об осквернении синагог установлением в них статуй, но не об их разрушении. См., однако, гл. 8: “Он отобрал у нас наши молельни, не оставив им даже имени”, а также «Посольство к Гаю» (начало гл. 20). Возможно, слово “уничтожение” в этом контексте следует понимать как метафору; вместе с тем, не исключено, что слово употреблено здесь в прямом смысле и указывает на те факты, которые Филон во «Флакке» не излагает, но имеет в виду, сообщая о них в «Посольстве».
[22] Ном — греческое именование административных округов, на которые с древних времен делится Египет.
[23] Гипотайния — район, примыкающий к прибрежной полосе. Марея — иначе, Мареотидское озеро.
[24] Подразумевается прежде всего Александрия и Антиохия. Ср. Иосиф Флавий, «Против Апиона», II, 39; Antiquit. XII. 119.
[25] Ср. «Посольство к Гаю», гл. 39, 40.
[26] Все гипотезы о содержании данного указа см. Philo. In ten volumes. With an Engl. translation. — L., 1985. — v. IX, p. 534. Для настоящего контекста наиболее важно, что согласно этому указу расселение евреев в Александрии было, вероятно, ограничено одним кварталом. Таким образом, описанные ниже действия александрийцев представляются не злостной инициативой, но как бы исполнением указа. Слова о лишении евреев гражданских прав являются, возможно, риторическим преувеличением.
[27] Друзилла — сестра Гая (16 г. н.э. – 38 г. н.э.). Траур по Друзилле не был обычной данью памяти — Гай был особенно к ней привязан и после ее смерти издал указ, согласно которому смех и всяческие развлечения расценивались как уголовное преступление. См. об этом: Светоний, «Гай», 24.
[28] Генарх — здесь то же, что этнарх — официальное лицо, ведавшее в Александрии всеми делами евреев, а также исполнявшее роль судьи.
[29] Магий Максим — см. прим. 5.
[30] Эвод, Трифон, Андрон — ближе неизвестны.
[31] Возможно, после событий, описанных в главе 8.
[32] Александрийцы как горожане Александрии стояли на более высокой ступени в социальной иерархии, нежели египтяне, не имевшие александрийского гражданства.
[33] Очевидно, подразумевается день рождения самого Гая (31 августа).
[34] Каст — ближе неизвестен. Некий центурион Каст упоминается в военных списках времен Тиберия (CIL III.6627, I.5‑6).
[35] Басс — скорее всего, Басс, фигурирующий в эпизоде с изъятием оружия и центурион Басс из гл. 13 — одно и то же лицо. Ближе неизвестен.
[36] Очевидно, по случаю провозглашения Гая императором.
[37] См. выше, гл. 5.
[38] Возможно, именно факт сокрытия торжественного послания, ставший известным Гаю, и явился главной причиной гнева Гая и его расправы с Флакком.
[39] Император Тиберий был сыном Тиберия Клавдия Нерона, но император Октавиан Август усыновил его, ибо не имел потомков мужского пола и, следовательно, наследников власти.
[40] См. выше, прим. 35.
[41] См. выше, прим. 16.
[42] Подразумевается лицо, которому были вверены все военные силы, стоявшие в Египте и самой Александрии (греч. στρατάρχης, букв. “начальник войска”).
[43] Стефаний — ближе неизвестен.
[44] Так — перифрастически — Филон обозначает Праздник Кущей (Сукот).
[45] Члены Совета старейшин (см. выше, гл. 10).
[46] См. выше, прим. 11.
[47] Гимнасиарх — эта должность появилась в Египте при Птолемеях; первоначально гимнасиарх действительно ведал делами, связанными с устройством и содержанием гимнасиев; впоследствии (и, видимо, уже в то время, о котором идет речь в нашем тексте) его функции расширились до самых разнообразных общественных дел, причем важнейшей составляющей тут было финансирование различных общественных мероприятий.
[48] Ср. выше, гл. 1.
[49] В оригинале слово συμμορία — “симмория”.
[50] Смысл слова “ложе” (κλίνη) в данном контексте не вполне ясен. Скорее всего, это слово употреблялось для обозначения римского понятия lectisternium или pulvinar deorum (ложе или подушка, на которой помещалось изображение божества); потом стало обозначать и некое культовое событие вокруг этого ложа и, следовательно, всех участников этого события. Таким образом, если слово имеет первичный сакральный смысл, то в данном контексте употреблено иронически. Ср. далее: “председатель ложа” (κλινάρχης) — развитие семантики и употребление в настоящем контексте то же. Слова κλίνη и κλινάρχης представляются труднопереводимыми.
[51] В оригинале: “сплетая анапестами лживые и длинные речи”. “Анапест” в данном случае обозначает не метр, но тип текста, с которым этот размер ассоциировался, — насмешливый и издевательский (ср. термин “ямб” как обозначение метра и жанра одновременно). Смысл, вероятно, таков: “глумиться, произнося длинные и лживые речи”.
[52] Гиара — один из Кикладских островов между Кеосом и Андросом. О-ва Аморгос, Гиара (Гиарос), Андрос и Серифос в римскую эпоху были обычным местом ссылки; Гиара даже стала поговорочном обозначением всякой ссылки (ср. Ювенал, «Сатиры», I.73).
[53] Лепид — Эмилий Лепид, муж Друзиллы (см. выше, прим. 27).
[54] Брундизий — см. выше, прим. 14.
[55] Лехей — местечко у Коринфского залива, недалеко от Коринфа; гавань и место стоянки военных кораблей.
[56] Истм — то же, что Коринфский перешеек.
[57] Кенхрея — местечко у Саронического залива; главная гавань Коринфа в этом заливе.
[58] Пирей — афинская гавань.
[59] Суний — мыс, южная оконечность Аттики.
[60] Елена, Кеос, Китн — Кикладские о-ва; перечислены по мере удаления от Аттики.
[61] См. выше, прим. 53.
[62] В оригинале ἀποδημία, букв. “пребывание вдали от своего народа, на чужбине, вдали от родины”.