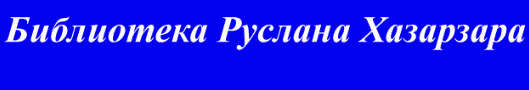
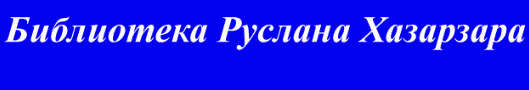 |
Lucian, vol. 5. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1936, pp. 2вАУ50.
Λουκιανὸς Κρονίῳ εὖ πράττειν.
I. Ὁ κακοδαίμων Περεγρῖνος, ἢ ὡς αὐτὸς ἔχαιρεν ὀνομάζων ἑαυτόν, Πρωτεύς, αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Ὁμηρικοῦ Πρωτέως ἔπαθεν· ἅπαντα γὰρ δόξης ἕνεκα γενόμενος καὶ μυρίας τροπὰς τραπόμενος, τὰ τελευταῖα ταῦτα καὶ πῦρ ἐγένετο· τοσούτῳ ἄρα τῷ ἔρωτι τῆς δόξης εἴχετο. καὶ νῦν ἐκεῖνος ἀπηνθράκωταί σοι ὁ βέλτιστος κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα, παρвАЩ ὅσον ὁ μὲν κἂν διαλαθεῖν ἐπειράθη ἐμβαλὼν ἑαυτὸν εἰς τοὺς κρατῆρας, ὁ δὲ γεννάδας οὗτος, τὴν πολυανθρωποτάτην τῶν Ἑλληνικῶν πανηγύρεων τηρήσας, πυρὰν ὅτι μεγίστην νήσας ἐνεπήδησεν ἐπὶ τοσούτων μαρτύρων, καὶ λόγους τινὰς ὑπὲρ τούτου εἰπὼν πρὸς τοὺς Ἕλληνας οὐ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν τοῦ τολμήματος.
II. Πολλὰ τοίνυν δοκῶ μοι ὁρᾶν σε γελῶντα ἐπὶ τῇ κορύζῃ τοῦ γέροντος, μᾶλλον δὲ καὶ ἀκούω βοῶντος οἷά σε εἰκὸς βοᾶν, вАЬὪ τῆς ἀβελτερίας, ὢ τῆς δοξοκοπίας, ὢ вАУ вАЬ τῶν ἄλλων ἃ λέγειν εἰώθαμεν περὶ αὐτῶν. σὺ μὲν οὖν πόρρω ταῦτα καὶ μακρῷ ἀσφαλέστερον, ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ πῦρ αὐτὸ καὶ ἔτι πρότερον ἐν πολλῷ πλήθει τῶν ἀκροατῶν εἶπον αὐτά, ἐνίων μὲν ἀχθομένων, ὅσοι ἐθαύμαζον τὴν ἀπόνοιαν τοῦ γέροντος· ἦσαν δέ τινες οἳ καὶ αὐτοὶ ἐγέλων ἐπвАЩ αὐτῷ. ἀλλвАЩ ὀλίγου δεῖν ὑπὸ τῶν Κυνικῶν ἐγώ σοι διεσπάσθην ὥσπερ ὁ Ἀκταίων ὑπὸ τῶν κυνῶν ἢ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς ὑπὸ τῶν Μαινάδων.
III. Ἡ δὲ πᾶσα τοῦ πράγματος διασκευὴ τοιάδε ἦν. τὸν μὲν ποιητὴν οἶσθα οἷός τε ἦν καὶ ἡλίκα ἐτραγῴδει παρвАЩ ὅλον τὸν βίον, ὑπὲρ τὸν Σοφοκλέα καὶ τὸν Αἰσχύλον. ἐγὼ δὲ ἐπεὶ τάχιστα εἰς τὴν Ἦλιν ἀφικόμην, διὰ τοῦ γυμνασίου ἀνιὼν ἐπήκουον ἅμα Κυνικοῦ τινος μεγάλῃ καὶ τραχείᾳ τῇ φωνῇ τὰ συνήθη ταῦτα καὶ ἐκ τριόδου τὴν ἀρετὴν ἐπιβοωμένου καὶ ἅπασιν ἁπαξαπλῶς λοιδορουμένου. εἶτα κατέληξεν αὐτῷ ἡ βοὴ ἐς τὸν Πρωτέα, καὶ ὡς ἂν οἷός τε ὦ πειράσομαί σοι αὐτὰ ἐκεῖνα ἀπομνημονεῦσαι ὡς ἐλέγετο. σὺ δὲ γνωριεῖς δηλαδή, πολλάκις αὐτοῖς παραστὰς βοῶσιν.
IV. вАЭΠρωτέα γάρ τις,вАЭ ἔφη, вАЬκενόδοξον τολμᾷ λέγειν, ὦ γῆ καὶ ἥλιε καὶ ποταμοὶ καὶ θάλαττα καὶ πατρῷε Ἡράκλεις вАУ Πρωτέα τὸν ἐν Συρίᾳ δεθέντα, τὸν τῇ πατρίδι ἀνέντα πεντακισχίλια τάλαντα, τὸν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐκβληθέντα, τὸν τοῦ Ἡλίου ἐπισημότερον, τὸν αὐτῷ ἀνταγωνίσασθαι τῷ Ὀλυμπίῳ δυνάμενον; ἀλλвАЩ ὅτι διὰ πυρὸς ἐξάγειν τοῦ βίου διέγνωκεν ἑαυτόν, εἰς κενοδοξίαν τινὲς τοῦτο ἀναφέρουσιν; οὐ γὰρ Ἡρακλῆς οὕτως; οὐ γὰρ Ἀσκληπιὸς καὶ Διόνυσος κεραυνῷ; οὐ γὰρ τὰ τελευταῖα Ἐμπεδοκλῆς εἰς τοὺς κρατῆρας;вАЭ
V. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ Θεαγένης вАУ τοῦτο γὰρ ὁ κεκραγὼς ἐκεῖνος ἐκαλεῖτο вАУ ἠρόμην τινὰ τῶν παρεστώτων, вАЬΤί βούλεται τὸ περὶ τοῦ πυρός, ἢ τί Ἡρακλῆς καὶ Ἐμπεδοκλῆς πρὸς τὸν Πρωτέα.вАЭ ὁ δέ, вАЬΟὐκ εἰς μακράν,вАЭ ἔφη, вАЬκαύσει ἑαυτὸν ὁ Πρωτεὺς Ὀλυμπίασιν.вАЭ вАЬΠῶς,вАЭ ἔφην, вАЬἢ τίνος ἕνεκα;вАЭ εἶτα ὁ μὲν ἐπειρᾶτο λέγειν, ἐβόα δὲ ὁ Κυνικός, ὥστε ἀμήχανον ἦν ἄλλου ἀκούειν. ἐπήκουον οὖν τὰ λοιπὰ ἐπαντλοῦντος αὐτοῦ καὶ θαυμαστάς τινας ὑπερβολὰς διεξιόντος κατὰ τοῦ Πρωτέως· τὸν μὲν γὰρ Σινωπέα ἢ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ Ἀντισθένη οὐδὲ παραβάλλειν ἠξίου αὐτῷ, ἀλλвАЩ οὐδὲ τὸν Σωκράτη αὐτόν, ἐκάλει δὲ τὸν Δία ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν. εἶτα μέντοι ἔδοξεν αὐτῷ ἴσους πως φυλάξαι αὐτούς, καὶ οὕτω κατέπαυε τὸν λόγον· VI. вАЬΔύο γὰρ ταῦτα,вАЭ ἔφη, вАЬὁ βίος ἄριστα δημιουργήματα ἐθεάσατο, τὸν Δία τὸν Ὀλύμπιον καὶ Πρωτέα· πλάσται δὲ καὶ τεχνῖται, τοῦ μὲν Φειδίας, τοῦ δὲ ἡ φύσις. ἀλλὰ νῦν ἐξ ἀνθρώπων εἰς θεοὺς τὸ ἄγαλμα τοῦτο οἰχήσεται, ὀχούμενον ἐπὶ τοῦ πυρός, ὀρφανοὺς ἡμᾶς καταλιπόν.вАЭ ταῦτα ξὺν πολλῷ ἱδρῶτι διεξελθὼν ἐδάκρυε μάλα γελοίως καὶ τὰς τρίχας ἐτίλλετο, ὑποφειδόμενος μὴ πάνυ ἕλκειν· καὶ τέλος ἀπῆγον αὐτὸν λύζοντα μεταξὺ τῶν Κυνικῶν τινες παραμυθούμενοι.
VII. Μετὰ δὲ τοῦτον ἄλλος εὐθὺς ἀναβαίνει, οὐ περιμείνας διαλυθῆναι τὸ πλῆθος ἀλλὰ ἐπвАЩ αἰθομένοις τοῖς προτέροις ἱερείοις ἐπέχει τῶν σπονδῶν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ πολὺ ἐγέλα καὶ δῆλος ἦν νειόθεν αὐτὸ δρῶν· εἶτα ἤρξατο ὧδέ πως· вАЬἘπεὶ ὁ κατάρατος Θεαγένης τέλος τῶν μιαρωτάτων αὐτοῦ λόγων τὰ Ἡρακλείτου δάκρυα ἐποιήσατο, ἐγὼ κατὰ τὸ ἐναντίον ἀπὸ τοῦ Δημοκρίτου γέλωτος ἄρξομαι.вАЭ καὶ αὖθις ἐγέλα ἐπὶ πολύ, ὥστε καὶ ἡμῶν τοὺς πολλοὺς ἐπὶ τὸ ὅμοιον ἐπεσπάσατο. VIII. εἶτα ἐπιστρέψας ἑαυτόν, вАЬἪ τί γὰρ ἄλλο,вАЭ ἔφη, вАЬὦ ἄνδρες, χρὴ ποιεῖν ἀκούοντας μὲν οὕτω γελοίων ῥήσεων, ὁρῶντας δὲ ἄνδρας γέροντας δοξαρίου καταπτύστου ἕνεκα μονονουχὶ κυβιστῶντας ἐν τῷ μέσῳ; ὡς δὲ εἰδείητε οἷόν τι τὸ ἄγαλμά ἐστι τὸ καυθησόμενον, ἀκούσατέ μου ἐξ ἀρχῆς παραφυλάξαντος τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ τὸν βίον ἐπιτηρήσαντος· ἔνια δὲ παρὰ τῶν πολιτῶν αὐτοῦ ἐπυνθανόμην καὶ οἷς ἀνάγκη ἦν ἀκριβῶς εἰδέναι αὐτόν.
IX. вАЭΤὸ γὰρ τῆς φύσεως τοῦτο πλάσμα καὶ δημιούργημα, ὁ τοῦ Πολυκλείτου κανών, ἐπεὶ εἰς ἄνδρας τελεῖν ἤρξατο, ἐν Ἀρμενίᾳ μοιχεύων ἁλοὺς μάλα πολλὰς πληγὰς ἔλαβεν καὶ τέλος κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμενος διέφυγε, ῥαφανῖδι τὴν πυγὴν βεβυσμένος. εἶτα μειράκιόν τι ὡραῖον διαφθείρας τρισχιλίων ἐξωνήσατο παρὰ τῶν γονέων τοῦ παιδός, πενήτων ὄντων, μὴ ἐπὶ τὸν ἁρμοστὴν ἀπαχθῆναι τῆς Ἀσίας.
X. вАЭΤαῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐάσειν μοι δοκῶ· πηλὸς γὰρ ἔτι ἄπλαστος ἦν καὶ οὐδέπω ἐντελὲς ἄγαλμα ἡμῖν δεδημιούργητο. ἃ δὲ τὸν πατέρα ἔδρασεν καὶ πάνυ ἀκοῦσαι ἄξιον· καίτοι πάντες ἴστε, καὶ ἀκηκόατε ὡς ἀπέπνιξε τὸν γέροντα, οὐκ ἀνασχόμενος αὐτὸν ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη ἤδη γηρῶντα. εἶτα ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα διεβεβόητο, φυγὴν ἑαυτοῦ καταδικάσας ἐπλανᾶτο ἄλλοτε ἄλλην ἀμείβων.
XI. вАЭὍτεπερ καὶ τὴν θαυμαστὴν σοφίαν τῶν Χριστιανῶν ἐξέμαθεν, περὶ τὴν Παλαιστίνην τοῖς ἱερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν αὐτῶν ξυγγενόμενος. καὶ τί γάρ; ἐν βραχεῖ παῖδας αὐτοὺς ἀπέφηνε, προφήτης καὶ θιασάρχης καὶ ξυναγωγεὺς καὶ πάντα μόνος αὐτὸς ὤν, καὶ τῶν βίβλων τὰς μὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει, πολλὰς δὲ αὐτὸς καὶ συνέγραφεν, καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνοι ᾐδοῦντο καὶ νομοθέτῃ ἐχρῶντο καὶ προστάτην ἐπεγράφοντο, μετὰ γοῦν ἐκεῖνον ὃν ἔτι σέβουσι, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀνασκολοπισθέντα, ὅτι καινὴν ταύτην τελετὴν εἰσῆγεν ἐς τὸν βίον.
XII. вАЭΤότε δὴ καὶ συλληφθεὶς ἐπὶ τούτῳ ὁ Πρωτεὺς ἐνέπεσεν εἰς τὸ δεσμωτήριον, ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ μικρὸν αὐτῷ ἀξίωμα περιεποίησεν πρὸς τὸν ἑξῆς βίον καὶ τὴν τερατείαν καὶ δοξοκοπίαν ὧν ἐρῶν ἐτύγχανεν. ἐπεὶ δвАЩ οὖν ἐδέδετο, οἱ Χριστιανοὶ συμφορὰν ποιούμενοι τὸ πρᾶγμα πάντα ἐκίνουν ἐξαρπάσαι πειρώμενοι αὐτόν. εἶτвАЩ, ἐπεὶ τοῦτο ἦν ἀδύνατον, ἥ γε ἄλλη θεραπεία πᾶσα οὐ παρέργως ἀλλὰ σὺν σπουδῇ ἐγίγνετο· καὶ ἕωθεν μὲν εὐθὺς ἦν ὁρᾶν παρὰ τῷ δεσμωτηρίῳ περιμένοντα γρᾴδια χήρας τινὰς καὶ παιδία ὀρφανά, οἱ δὲ ἐν τέλει αὐτῶν καὶ συνεκάθευδον ἔνδον μετвАЩ αὐτοῦ διαφθείραντες τοὺς δεσμοφύλακας. εἶτα δεῖπνα ποικίλα εἰσεκομίζετο καὶ λόγοι ἱεροὶ αὐτῶν ἐλέγοντο, καὶ ὁ βέλτιστος Περεγρῖνος вАУ ἔτι γὰρ τοῦτο ἐκαλεῖτο вАУ καινὸς Σωκράτης ὑπвАЩ αὐτῶν ὠνομάζετο.
XIII. вАЭΚαὶ μὴν κἀκ τῶν ἐν Ἀσίᾳ πόλεων ἔστιν ὧν ἧκόν τινες, τῶν Χριστιανῶν στελλόντων ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, βοηθήσοντες καὶ συναγορεύσοντες καὶ παραμυθησόμενοι τὸν ἄνδρα. ἀμήχανον δέ τι τὸ τάχος ἐπιδείκνυνται, ἐπειδάν τι τοιοῦτον γένηται δημόσιον· ἐν βραχεῖ γὰρ ἀφειδοῦσι πάντων. καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρίνῳ πολλὰ τότε ἧκεν χρήματα παρвАЩ αὐτῶν ἐπὶ προφάσει τῶν δεσμῶν, καὶ πρόσοδον οὐ μικρὰν ταύτην ἐποιήσατο. πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς οἱ κακοδαίμονες τὸ μὲν ὅλον ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρвАЩ ὃ καὶ καταφρονοῦσιν τοῦ θανάτου καὶ ἑκόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί. ἔπειτα δὲ ὁ νομοθέτης ὁ πρῶτος ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς ἀδελφοὶ πάντες εἶεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες θεοὺς μὲν τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ ἀνεσκολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτὸν προσκυνῶσιν καὶ κατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους βιῶσιν. καταφρονοῦσιν οὖν ἁπάντων ἐξ ἴσης καὶ κοινὰ ἡγοῦνται, ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα παραδεξάμενοι. ἢν τοίνυν παρέλθῃ τις εἰς αὐτοὺς γόης καὶ τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ πράγμασιν χρῆσθαι δυνάμενος, αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐν βραχεῖ ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών.
XIV. вАЭΠλὴν ἀλλвАЩ ὁ Περεγρῖνος ἀφείθη ὑπὸ τοῦ τότε τῆς Συρίας ἄρχοντος, ἀνδρὸς φιλοσοφίᾳ χαίροντος, ὃς συνεὶς τὴν ἀπόνοιαν αὐτοῦ καὶ ὅτι δέξαιτвАЩ ἂν ἀποθανεῖν ὡς δόξαν ἐπὶ τούτῳ ἀπολίποι, ἀφῆκεν αὐτὸν οὐδὲ τῆς κολάσεως ὑπολαβὼν ἄξιον. ὁ δὲ εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανελθὼν καταλαμβάνει τὸ περὶ τοῦ πατρῴου φόνου ἔτι φλεγμαῖνον καὶ πολλοὺς τοὺς ἐπανατεινομένους τὴν κατηγορίαν. διήρπαστο δὲ τὰ πλεῖστα τῶν κτημάτων παρὰ τὴν ἀποδημίαν αὐτοῦ καὶ μόνοι ὑπελείποντο οἱ ἀγροὶ ὅσον εἰς πεντεκαίδεκα τάλαντα. ἦν γὰρ ἡ πᾶσα οὐσία τριάκοντά που ταλάντων ἀξία ἣν ὁ γέρων κατέλιπεν, οὐχ ὥσπερ ὁ παγγέλοιος Θεαγένης ἔλεγε πεντακισχιλίων· τοσούτου γὰρ οὐδὲ ἡ πᾶσα τῶν Παριανῶν πόλις πέντε σὺν αὐτῇ τὰς γειτνιώσας παραλαβοῦσα πραθείη ἂν αὐτοῖς ἀνθρώποις καὶ βοσκήμασιν καὶ τῇ λοιπῇ παρασκευῇ.
XV. вАЭἈλλвАЩ ἔτι γε ἡ κατηγορία καὶ τὸ ἔγκλημα θερμὸν ἦν, καὶ ἐῴκει οὐκ εἰς μακρὰν ἐπαναστήσεσθαί τις αὐτῷ, καὶ μάλιστα ὁ δῆμος αὐτὸς ἠγανάκτει, χρηστόν, ὡς ἔφασαν οἱ ἰδόντες, γέροντα πενθοῦντες οὕτως ἀσεβῶς ἀπολωλότα. ὁ δὲ σοφὸς οὗτος Πρωτεὺς πρὸς ἅπαντα ταῦτα σκέψασθε οἷόν τι ἐξεῦρεν καὶ ὅπως τὸν κίνδυνον διέφυγεν. παρελθὼν γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῶν Παριανῶν вАУ ἐκόμα δὲ ἤδη καὶ τρίβωνα πιναρὸν ἠμπείχετο καὶ πήραν παρήρτητο καὶ τὸ ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἦν, καὶ ὅλως μάλα τραγικῶς ἐσκεύαστο вАУ τοιοῦτος οὖν ἐπιφανεὶς αὐτοῖς ἀφεῖναι ἔφη τὴν οὐσίαν ἣν ὁ μακαρίτης πατὴρ αὐτῷ κατέλιπεν δημοσίαν εἶναι πᾶσαν. τοῦτο ὡς ἤκουσεν ὁ δῆμος, πένητες ἄνθρωποι καὶ πρὸς διανομὰς κεχηνότες, ἀνέκραγον εὐθὺς ἕνα φιλόσοφον, ἕνα φιλόπατριν, ἕνα Διογένους καὶ Κράτητος ζηλωτήν. οἱ δὲ ἐχθροὶ ἐπεφίμωντο, κἂν εἴ τις ἐπιχειρήσειεν μεμνῆσθαι τοῦ φόνου, λίθοις εὐθὺς ἐβάλλετο.
XVI. вАЭἘξῄει οὖν τὸ δεύτερον πλανησόμενος, ἱκανὰ ἐφόδια τοὺς Χριστιανοὺς ἔχων, ὑφвАЩ ὧν δορυφορούμενος ἐν ἅπασιν ἀφθόνοις ἦν. καὶ χρόνον μέν τινα οὕτως ἐβόσκετο· εἶτα παρανομήσας τι καὶ ἐς ἐκείνους вАУ ὤφθη γάρ τι, ὡς οἶμαι, ἐσθίων τῶν ἀπορρήτων αὐτοῖς вАУ οὐκέτι προσιεμένων αὐτὸν ἀπορούμενος ἐκ παλινῳδίας ἀπαιτεῖν ᾤετο δεῖν παρὰ τῆς πόλεως τὰ κτήματα, καὶ γραμματεῖον ἐπιδοὺς ἠξίου ταῦτα κομίσασθαι κελεύσαντος βασιλέως. εἶτα τῆς πόλεως ἀντιπρεσβευσαμένης οὐδὲν ἐπράχθη, ἀλλвАЩ ἐμμένειν ἐκελεύσθη οἷς ἅπαξ διέγνω μηδενὸς καταναγκάσαντος.
XVII. вАЭΤρίτη ἐπὶ τούτοις ἀποδημία εἰς Αἴγυπτον παρὰ τὸν Ἀγαθόβουλον, ἵναπερ τὴν θαυμαστὴν ἄσκησιν διησκεῖτο, ξυρόμενος μὲν τῆς κεφαλῆς τὸ ἥμισυ, χριόμενος δὲ πηλῷ τὸ πρόσωπον, ἐν πολλῷ δὲ τῶν περιεστώτων δήμῳ ἀναφλῶν τὸ αἰδοῖον καὶ τὸ ἀδιάφορον δὴ τοῦτο καλούμενον ἐπιδεικνύμενος, εἶτα παίων καὶ παιόμενος νάρθηκι εἰς τὰς πυγὰς καὶ ἄλλα πολλὰ νεανικώτερα θαυματοποιῶν.
XVIII. вАЭἘκεῖθεν δὲ οὕτω παρεσκευασμένος ἐπὶ Ἰταλίας ἔπλευσεν καὶ ἀποβὰς τῆς νεὼς εὐθὺς ἐλοιδορεῖτο πᾶσι, καὶ μάλιστα τῷ βασιλεῖ, πρᾳότατον αὐτὸν καὶ ἡμερώτατον εἰδώς, ὥστε ἀσφαλῶς ἐτόλμα· ἐκείνῳ γάρ, ὡς εἰκός, ὀλίγον ἔμελεν τῶν βλασφημιῶν καὶ οὐκ ἠξίου τὴν φιλοσοφίαν ὑποδυόμενόν τινα κολάζειν ἐπὶ ῥήμασι καὶ μάλιστα τέχνην τινὰ τὸ λοιδορεῖσθαι πεποιημένον. τούτῳ δὲ καὶ ἀπὸ τούτων τὰ τῆς δόξης ηὐξάνετο, παρὰ γοῦν τοῖς ἰδιώταις, καὶ περίβλεπτος ἦν ἐπὶ τῇ ἀπονοίᾳ, μέχρι δὴ ὁ τὴν πόλιν ἐπιτετραμμένος ἀνὴρ σοφὸς ἀπέπεμψεν αὐτὸν ἀμέτρως ἐντρυφῶντα τῷ πράγματι, εἰπὼν μὴ δεῖσθαι τὴν πόλιν τοιούτου φιλοσόφου. πλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο κλεινὸν αὐτοῦ καὶ διὰ στόματος ἦν ἅπασιν, ὁ φιλόσοφος διὰ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν ἄγαν ἐλευθερίαν ἐξελαθείς, καὶ προσήλαυνε κατὰ τοῦτο τῷ Μουσωνίῳ καὶ Δίωνι καὶ Ἐπικτήτῳ καὶ εἴ τις ἄλλος ἐν περιστάσει τοιαύτῃ ἐγένετο.
XIX. вАЭΟὕτω δὴ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλθὼν ἄρτι μὲν Ἠλείοις ἐλοιδορεῖτο, ἄρτι δὲ τοὺς Ἕλληνας ἔπειθεν ἀντάρασθαι ὅπλα Ῥωμαίοις, ἄρτι δὲ ἄνδρα παιδείᾳ καὶ ἀξιώματι προὔχοντα, διότι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις εὖ ἐποίησεν τὴν Ἑλλάδα καὶ ὕδωρ ἐπήγαγεν τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ ἔπαυσε δίψει ἀπολλυμένους τοὺς πανηγυριστάς, κακῶς ἠγόρευεν ὡς καταθηλύναντα τοὺς Ἕλληνας, δέον τοὺς θεατὰς τῶν Ὀλυμπίων διακαρτερεῖν διψῶντας καὶ νὴ Δία γε καὶ ἀποθνήσκειν πολλοὺς αὐτῶν ὑπὸ σφοδρῶν τῶν νόσων, αἳ τέως διὰ τὸ ξηρὸν τοῦ χωρίου ἐν πολλῷ τῷ πλήθει ἐπεπόλαζον. καὶ ταῦτα ἔλεγε πίνων τοῦ αὐτοῦ ὕδατος.
вАЭὩς δὲ μικροῦ κατέλευσαν αὐτὸν ἐπιδραμόντες ἅπαντες, τότε μὲν ἐπὶ τὸν Δία καταφυγὼν ὁ γενναῖος εὕρετο μὴ ἀποθανεῖν, XX. ἐς δὲ τὴν ἑξῆς Ὀλυμπιάδα λόγον τινὰ διὰ τεττάρων ἐτῶν συνθεὶς τῶν διὰ μέσου ἐξήνεγκε πρὸς τοὺς Ἕλληνας, ἔπαινον ὑπὲρ τοῦ τὸ ὕδωρ ἐπαγαγόντος καὶ ἀπολογίαν ὑπὲρ τῆς τότε φυγῆς.
вАЭἬδη δὲ ἀμελούμενος ὑφвАЩ ἁπάντων καὶ μηκέθвАЩ ὁμοίως περίβλεπτος ὤν вАУ ἕωλα γὰρ ἦν ἅπαντα καὶ οὐδὲν ἔτι καινουργεῖν ἐδύνατο ἐφвАЩ ὅτῳ ἐκπλήξει τοὺς ἐντυγχάνοντας καὶ θαυμάζειν καὶ πρὸς αὐτὸν ἀποβλέπειν ποιήσει, οὗπερ ἐξ ἀρχῆς δριμύν τινα ἔρωτα ἐρῶν ἐτύγχανεν вАУ τὸ τελευταῖον τοῦτο τόλμημα ἐβουλεύσατο περὶ τῆς πυρᾶς, καὶ διέδωκε λόγον ἐς τοὺς Ἕλληνας εὐθὺς ἀπвАЩ Ὀλυμπίων τῶν ἔμπροσθεν ὡς ἐς τοὐπιὸν καύσων ἑαυτόν. XXI. καὶ νῦν αὐτὰ ταῦτα θαυματοποιεῖ, ὥς φασι, βόθρον ὀρύττων καὶ ξύλα συγκομίζων καὶ δεινήν τινα τὴν καρτερίαν ὑπισχνούμενος.
вАЭἘχρῆν δέ, οἶμαι, μάλιστα μὲν περιμένειν τὸν θάνατον καὶ μὴ δραπετεύειν ἐκ τοῦ βίου· εἰ δὲ καὶ πάντως διέγνωστό οἱ ἀπαλλάττεσθαι, μὴ πυρὶ μηδὲ τοῖς ἀπὸ τῆς τραγῳδίας τούτοις χρῆσθαι, ἀλλвАЩ ἕτερόν τινα θανάτου τρόπον, μυρίων ὄντων, ἑλόμενον ἀπελθεῖν. εἰ δὲ καὶ τὸ πῦρ ὡς Ἡράκλειόν τι ἀσπάζεται, τί δή ποτε οὐχὶ κατὰ σιγὴν ἑλόμενος ὄρος εὔδενδρον ἐν ἐκείνῳ ἑαυτὸν ἐνέπρησεν μόνος, ἕνα τινὰ οἷον Θεαγένη τοῦτον Φιλοκτήτην παραλαβών; ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ τῆς πανηγύρεως πληθούσης μόνον οὐκ ἐπὶ σκηνῆς ὀπτήσει ἑαυτόν, οὐκ ἀνάξιος ὤν, μὰ τὸν Ἡρακλέα, εἴ γε χρὴ καὶ τοὺς πατραλοίας καὶ τοὺς ἀθέους δίκας διδόναι τῶν τολμημάτων. καὶ κατὰ τοῦτο πάνυ ὀψὲ δρᾶν αὐτὸ ἔοικεν, ὃν ἐχρῆν πάλαι ἐς τὸν τοῦ Φαλάριδος ταῦρον ἐμπεσόντα τὴν ἀξίαν ἀποτετικέναι, ἀλλὰ μὴ ἅπαξ χανόντα πρὸς τὴν φλόγα ἐν ἀκαρεῖ τεθνάναι. καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε οἱ πολλοί μοι λέγουσιν, ὡς οὐδεὶς ὀξύτερος ἄλλος θανάτου τρόπος τοῦ διὰ πυρός· ἀνοῖξαι γὰρ δεῖ μόνον τὸ στόμα καὶ αὐτίκα τεθνάναι.
XXII. вАЭΤὸ μέντοι θέαμα ἐπινοεῖται, οἶμαι, ὡς σεμνόν, ἐν ἱερῷ χωρίῳ καιόμενος ἄνθρωπος, ἔνθα μηδὲ θάπτειν ὅσιον τοὺς ἄλλους ἀποθνήσκοντας. ἀκούετε δέ, οἶμαι, ὡς καὶ πάλαι θέλων τις ἔνδοξος γενέσθαι, ἐπεὶ κατвАЩ ἄλλον τρόπον οὐκ εἶχεν ἐπιτυχεῖν τούτου, ἐνέπρησε τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος τὸν νεών. τοιοῦτόν τι καὶ αὐτὸς ἐπινοεῖ, τοσοῦτος ἔρως τῆς δόξης ἐντέτηκεν αὐτῷ.
XXIII. вАЭΚαίτοι φησὶν ὅτι ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων αὐτὸ δρᾷ, ὡς διδάξειεν αὐτοὺς θανάτου καταφρονεῖν καὶ ἐγκαρτερεῖν τοῖς δεινοῖς. ἐγὼ δὲ ἡδέως ἂν ἐροίμην οὐκ ἐκεῖνον ἀλλвАЩ ὑμᾶς, εἰ καὶ τοὺς κακούργους βούλοισθε ἂν μαθητὰς αὐτοῦ γενέσθαι τῆς καρτερίας ταύτης καὶ καταφρονεῖν θανάτου καὶ καύσεως καὶ τῶν τοιούτων δειμάτων. ἀλλвАЩ οὐκ ἂν εὖ οἶδвАЩ ὅτι βουληθείητε. πῶς οὖν ὁ Πρωτεὺς τοῦτο διακρινεῖ καὶ τοὺς μὲν χρηστοὺς ὠφελήσει, τοὺς δὲ πονηροὺς οὐ φιλοκινδυνοτέρους καὶ τολμηροτέρους ἀποφανεῖ;
XXIV. вАЭΚαίτοι δυνατὸν ἔστω ἐς τοῦτο μόνους ἀπαντήσεσθαι τοὺς πρὸς τὸ ὠφέλιμον ὀψομένους τὸ πρᾶγμα. ὑμᾶς δвАЩ οὖν αὖθις ἐρήσομαι, δέξαισθвАЩ ἂν ὑμῶν τοὺς παῖδας ζηλωτὰς τοῦ τοιούτου γενέσθαι; οὐκ ἂν εἴποιτε. καὶ τί τοῦτο ἠρόμην, ὅπου μηδвАЩ αὐτῶν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ζηλώσειεν ἄν; τὸν γοῦν Θεαγένη τοῦτο μάλιστα αἰτιάσαιτο ἄν τις, ὅτι τἄλλα ζηλῶν τἀνδρὸς οὐχ ἕπεται τῷ διδασκάλῳ καὶ συνοδεύει παρὰ τὸν Ἡρακλέα, ὥς φησιν, ἀπιόντι, δυνάμενος ἐν βραχεῖ πανευδαίμων γενέσθαι συνεμπεσὼν ἐπὶ κεφαλὴν ἐς τὸ πῦρ.
вАЭΟὐ γὰρ ἐν πήρᾳ καὶ βάκτρῳ καὶ τρίβωνι ὁ ζῆλος, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀσφαλῆ καὶ ῥᾴδια καὶ παντὸς ἂν εἴη, τὸ τέλος δὲ καὶ τὸ κεφάλαιον χρὴ ζηλοῦν καὶ πυρὰν συνθέντα κορμῶν συκίνων ὡς ἔνι μάλιστα χλωρῶν ἐναποπνιγῆναι τῷ καπνῷ· τὸ πῦρ γὰρ αὐτὸ οὐ μόνον Ἡρακλέους καὶ Ἀσκληπιοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱεροσύλων καὶ ἀνδροφόνων, οὓς ὁρᾶν ἔστιν ἐκ καταδίκης αὐτὸ πάσχοντας. ὥστε ἄμεινον τὸ διὰ τοῦ καπνοῦ· ἴδιον γὰρ καὶ ὑμῶν ἂν μόνων γένοιτο.
XXV. вАЭἌλλως τε ὁ μὲν Ἡρακλῆς, εἴπερ ἄρα καὶ ἐτόλμησέν τι τοιοῦτο, ὑπὸ νόσου αὐτὸ ἔδρασεν, ὑπὸ τοῦ Κενταυρείου αἵματος, ὥς φησιν ἡ τραγῳδία, κατεσθιόμενος· οὗτος δὲ τίνος αἰτίας ἕνεκεν ἐμβάλλει φέρων ἑαυτὸν εἰς τὸ πῦρ; νὴ ΔίвАЩ, ὅπως τὴν καρτερίαν ἐπιδείξηται καθάπερ οἱ Βραχμᾶνες· ἐκείνοις γὰρ αὐτὸν ἠξίου Θεαγένης εἰκάζειν, ὥσπερ οὐκ ἐνὸν καὶ ἐν Ἰνδοῖς εἶναί τινας μωροὺς καὶ κενοδόξους ἀνθρώπους. ὅμως δвАЩ οὖν κἂν ἐκείνους μιμείσθω· ἐκεῖνοι γὰρ οὐκ ἐμπηδῶσιν ἐς τὸ πῦρ, ὡς Ὀνησίκριτος ὁ Ἀλεξάνδρου κυβερνήτης ἰδὼν Κάλανον καόμενόν φησιν, ἀλλвАЩ ἐπειδὰν νήσωσι, πλησίον παραστάντες ἀκίνητοι ἀνέχονται παροπτώμενοι, εἶτвАЩ ἐπιβάντες κατὰ σχῆμα καίονται, οὐδвАЩ ὅσον ὀλίγον ἐντρέψαντες τῆς κατακλίσεως.
вАЭΟὗτος δὲ τί μέγα εἰ ἐμπεσὼν τεθνήξεται συναρπασθεὶς ὑπὸ τοῦ πυρός; οὐκ ἀπвАЩ ἐλπίδος μὴ ἀναπηδήσασθαι αὐτὸν καὶ ἡμίφλεκτον, εἰ μή, ὅπερ φασί, μηχανήσεται βαθεῖαν γενέσθαι καὶ ἐν βόθρῳ τὴν πυράν. XXVI. εἰσὶ δвАЩ οἳ καὶ μεταβαλέσθαι φασιν αὐτὸν καί τινα ὀνείρατα διηγεῖσθαι, ὡς τοῦ Διὸς οὐκ ἐῶντος μιαίνειν ἱερὸν χωρίον. ἀλλὰ θαρρείτω τούτου γε ἕνεκα· ἐγὼ γὰρ διομοσαίμην ἂν ἦ μὴν μηδένα τῶν θεῶν ἀγανακτήσειν, εἰ Περεγρῖνος κακῶς ἀποθάνοι. οὐ μὴν οὐδὲ ῥᾴδιον αὐτῷ ἔτвАЩ ἀναδῦναι· οἱ γὰρ συνόντες κύνες παρορμῶσιν καὶ συνωθοῦσιν ἐς τὸ πῦρ καὶ ὑπεκκάουσι τὴν γνώμην, οὐκ ἐῶντες ἀποδειλιᾶν· ὧν εἰ δύο συγκατασπάσας ἐμπέσοι εἰς τὴν πυράν, τοῦτο μόνον χάριεν ἂν ἐργάσαιτο.
XXVII. вАЭἬκουον δὲ ὡς οὐδὲ Πρωτεὺς ἔτι καλεῖσθαι ἀξιοῖ, ἀλλὰ Φοίνικα μετωνόμασεν ἑαυτόν, ὅτι καὶ φοῖνιξ, τὸ Ἰνδικὸν ὄρνεον, ἐπιβαίνειν πυρᾶς λέγεται πορρωτάτω γήρως προβεβηκώς. ἀλλὰ καὶ λογοποιεῖ καὶ χρησμούς τινας διέξεισιν παλαιοὺς δή, ὡς χρεὼν εἴη δαίμονα νυκτοφύλακα γενέσθαι αὐτόν, καὶ δῆλός ἐστι βωμῶν ἤδη ἐπιθυμῶν καὶ χρυσοῦς ἀναστήσεσθαι ἐλπίζων.
XXVIII. вАЭΚαὶ μὰ Δία οὐδὲν ἀπεικὸς ἐν πολλοῖς τοῖς ἀνοήτοις εὑρεθήσεσθαί τινας τοὺς καὶ τεταρταίων ἀπηλλάχθαι διвАЩ αὐτοῦ φήσοντας καὶ νύκτωρ ἐντετυχηκέναι τῷ δαίμονι τῷ νυκτοφύλακι. οἱ κατάρατοι δὲ οὗτοι μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ χρηστήριον, οἶμαι, καὶ ἄδυτον ἐπὶ τῇ πυρᾷ μηχανήσονται, διότι καὶ Πρωτεὺς ἐκεῖνος ὁ Διός, ὁ προπάτωρ τοῦ ὀνόματος, μαντικὸς ἦν. μαρτύρομαι δὲ ἦ μὴν καὶ ἱερέας αὐτοῦ ἀποδειχθήσεσθαι μαστίγων ἢ καυτηρίων ἤ τινος τοιαύτης τερατουργίας, ἢ καὶ νὴ Δία τελετήν τινα ἐπвАЩ αὐτῷ συστήσεσθαι νυκτέριον καὶ δᾳδουχίαν ἐπὶ τῇ πυρᾷ.
XXIX. вАЭΘεαγένης δὲ ἔναγχος, ὥς μοί τις τῶν ἑταίρων ἀπήγγειλεν, καὶ Σίβυλλαν ἔφη προειρηκέναι περὶ τούτων· καὶ τὰ ἔπη γὰρ ἀπεμνημόνευεν·
ἈλλвАЩ ὁπόταν Πρωτεὺς Κυνικῶν ὄχвАЩ ἄριστος ἁπάντων
Ζηνὸς ἐριγδούπου τέμενος κάτα πῦρ ἀνακαύσας
ἐς φλόγα πηδήσας ἔλθῃ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
δὴ τότε πάντας ὁμῶς, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν,
νυκτιπόλον τιμᾶν κέλομαι ἥρωα μέγιστον
σύνθρονον Ἡφαίστῳ καὶ Ἡρακλῆϊ ἄνακτι.
XXX. вАЭΤαῦτα μὲν Θεαγένης Σιβύλλης ἀκηκοέναι φησίν. ἐγὼ δὲ Βάκιδος αὐτῷ χρησμὸν ὑπὲρ τούτων ἐρῶ· φησὶν δὲ ὁ Βάκις οὕτω, σφόδρα εὖ ἐπειπών,
ἈλλвАЩ ὁπόταν Κυνικὸς πολυώνυμος ἐς φλόγα πολλὴν
πηδήσῃ δόξης ὑπвАЩ ἐρινύι θυμὸν ὀρινθείς,
δὴ τότε τοὺς ἄλλους κυναλώπεκας, οἵ οἱ ἕπονται,
μιμεῖσθαι χρὴ πότμον ἀποιχομένοιο λύκοιο.
ὃς δέ κε δειλὸς ἐὼν φεύγῃ μένος Ἡφαίστοιο,
λάεσσιν βαλέειν τοῦτον τάχα πάντας Ἀχαιούς,
ὡς μὴ ψυχρὸς ἐὼν θερμηγορέειν ἐπιχειρῇ
χρυσῷ σαξάμενος πήρην μάλα πολλὰ δανείζων,
ἐν καλαῖς Πάτραισιν ἔχων τρὶς πέντε τάλαντα.
τί ὑμῖν δοκεῖ, ἄνδρες; ἆρα φαυλότερος χρησμολόγος ὁ Βάκις τῆς Σιβύλλης εἶναι; ὥστε ὥρα τοῖς θαυμαστοῖς τούτοις ὁμιληταῖς τοῦ Πρωτέως περισκοπεῖν ἔνθα ἑαυτοὺς ἐξαερώσουσιν· τοῦτο γὰρ τὴν καῦσιν καλοῦσιν.вАЭ
XXXI. ΤαῦτвАЩ εἰπόντος ἀνεβόησαν οἱ περιεστῶτες ἅπαντες, вАЬἬδη καιέσθωσαν ἄξιοι τοῦ πυρός.вАЭ καὶ ὁ μὲν κατέβη γελῶν, вАЬΝέστορα δвАЩ οὐκ ἔλαθεν ἰαχή,вАЭ τὸν Θεαγένη, ἀλλвАЩ ὡς ἤκουσεν τῆς βοῆς, ἧκεν εὐθὺς καὶ ἀναβὰς ἐκεκράγει καὶ μυρία κακὰ διεξῄει περὶ τοῦ καταβεβηκότος· οὐ γὰρ οἶδα ὅστις ἐκεῖνος ὁ βέλτιστος ἐκαλεῖτο. ἐγὼ δὲ ἀφεὶς αὐτὸν διαρρηγνύμενον ἀπῄειν ὀψόμενος τοὺς ἀθλητάς· ἤδη γὰρ οἱ Ἑλλανοδίκαι ἐλέγοντο εἶναι ἐν τῷ Πλεθρίῳ.
XXXII. Ταῦτα μέν σοι τὰ ἐν Ἤλιδι. ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν Ὀλυμπίαν ἀφικόμεθα, μεστὸς ἦν ὁ ὀπισθόδομος τῶν κατηγορούντων Πρωτέως ἢ ἐπαινούντων τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ, ὥστε καὶ εἰς χεῖρας αὐτῶν ἦλθον οἱ πολλοί, ἄχρι δὴ παρελθὼν αὐτὸς ὁ Πρωτεὺς μυρίῳ τῷ πλήθει παραπεμπόμενος κατόπιν τοῦ τῶν κηρύκων ἀγῶνος λόγους τινὰς διεξῆλθεν περὶ ἑαυτοῦ, τὸν βίον τε ὡς ἐβίω καὶ τοὺς κινδύνους οὓς ἐκινδύνευσεν διηγούμενος καὶ ὅσα πράγματα φιλοσοφίας ἕνεκα ὑπέμεινεν. τὰ μὲν οὖν εἰρημένα πολλὰ ἦν, ἐγὼ δὲ ὀλίγων ἤκουσα ὑπὸ πλήθους τῶν περιεστώτων. εἶτα φοβηθεὶς μὴ συντριβείην ἐν τοσαύτῃ τύρβῃ, ἐπεὶ καὶ πολλοὺς τοῦτο πάσχοντας ἑώρων, ἀπῆλθον μακρὰ χαίρειν φράσας θανατιῶντι σοφιστῇ τὸν ἐπιτάφιον ἑαυτοῦ πρὸ τελευτῆς διεξιόντι.
XXXIII. Πλὴν τό γε τοσοῦτον ἐπήκουσα· ἔφη γὰρ βούλεσθαι χρυσῷ βίῳ χρυσῆν κορώνην ἐπιθεῖναι· χρῆναι γὰρ τὸν Ἡρακλείως βεβιωκότα Ἡρακλείως ἀποθανεῖν καὶ ἀναμιχθῆναι τῷ αἰθέρι. вАЬΚαὶ ὠφελῆσαι,вАЭ ἔφη, вАЬβούλομαι τοὺς ἀνθρώπους δείξας αὐτοῖς ὃν χρὴ τρόπον θανάτου καταφρονεῖν· πάντας οὖν δεῖ μοι τοὺς ἀνθρώπους Φιλοκτήτας γενέσθαι.вАЭ οἱ μὲν οὖν ἀνοητότεροι τῶν ἀνθρώπων ἐδάκρυον καὶ ἐβόων вАЬΣώζου τοῖς Ἕλλησιν,вАЭ οἱ δὲ ἀνδρωδέστεροι ἐκεκράγεσαν вАЬΤέλει τὰ δεδογμένα,вАЭ ὑφвАЩ ὧν ὁ πρεσβύτης οὐ μετρίως ἐθορυβήθη ἐλπίζων πάντας ἕξεσθαι αὐτοῦ καὶ μὴ προήσεσθαι τῷ πυρί, ἀλλὰ ἄκοντα δὴ καθέξειν ἐν τῷ βίῳ. τὸ δὲ вАЬΤέλει τὰ δεδογμέναвАЭ πάνυ ἀδόκητον αὐτῷ προσπεσὸν ὠχριᾶν ἔτι μᾶλλον ἐποίησεν, καίτοι ἤδη νεκρικῶς τὴν χροιὰν ἔχοντι, καὶ νὴ Δία καὶ ὑποτρέμειν, ὥστε κατέπαυσε τὸν λόγον.
XXXIV. Ἐγὼ δέ, εἰκάζεις, οἶμαι, πῶς ἐγέλων· οὐδὲ γὰρ ἐλεεῖν ἄξιον ἦν οὕτω δυσέρωτα τῆς δόξης ἄνθρωπον ὑπὲρ ἅπαντας ὅσοι τῇ αὐτῇ Ποινῇ ἐλαύνονται. παρεπέμπετο δὲ ὅμως ὑπὸ πολλῶν καὶ ἐνεφορεῖτο τῆς δόξης ἀποβλέπων ἐς τὸ πλῆθος τῶν θαυμαζόντων, οὐκ εἰδὼς ὁ ἄθλιος ὅτι καὶ τοῖς ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἀπαγομένοις ἢ ὑπὸ τοῦ δημίου ἐχομένοις πολλῷ πλείους ἕπονται.
XXXV. Καὶ δὴ τὰ μὲν Ὀλύμπια τέλος εἶχεν, κάλλιστα Ὀλυμπίων γενόμενα ὧν ἐγὼ εἶδον, τετράκις ἤδη ὁρῶν. ἐγὼ δέ вАУ οὐ γὰρ ἦν εὐπορῆσαι ὀχήματος ἅμα πολλῶν ἐξιόντων вАУ ἄκων ὑπελειπόμην. ὁ δὲ ἀεὶ ἀναβαλλόμενος νύκτα τὸ τελευταῖον προειρήκει ἐπιδείξασθαι τὴν καῦσιν· καί με τῶν ἑταίρων τινὸς παραλαβόντος περὶ μέσας νύκτας ἐξαναστὰς ἀπῄειν εὐθὺ τῆς Ἁρπίνης, ἔνθα ἦν ἡ πυρά. στάδιοι πάντες οὗτοι εἴκοσιν ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν ἱππόδρομον ἀπιόντων πρὸς ἕω. καὶ ἐπεὶ τάχιστα ἀφικόμεθα, καταλαμβάνομεν πυρὰν νενησμένην ἐν βόθρῳ ὅσον ἐς ὀργυιὰν τὸ βάθος. δᾷδες ἦσαν τὰ πολλὰ καὶ παρεβέβυστο τῶν φρυγάνων, ὡς ἀναφθείη τάχιστα. XXXVI. καὶ ἐπειδὴ ἡ σελήνη ἀνέτελλεν вАУ ἔδει γὰρ κἀκείνην θεάσασθαι τὸ κάλλιστον τοῦτο ἔργον вАУ πρόεισιν ἐκεῖνος ἐσκευασμένος ἐς τὸν ἀεὶ τρόπον καὶ ξὺν αὐτῷ τὰ τέλη τῶν κυνῶν, καὶ μάλιστα ὁ γεννάδας ὁ ἐκ Πατρῶν, δᾷδα ἔχων, οὐ φαῦλος δευτεραγωνιστής· ἐδᾳδοφόρει δὲ καὶ ὁ Πρωτεύς. καὶ προσελθόντες ἄλλος ἀλλαχόθεν ἀνῆψαν τὸ πῦρ μέγιστον ἅτε ἀπὸ δᾴδων καὶ φρυγάνων. ὁ δέ вАУ καί μοι πάνυ ἤδη πρόσεχε τὸν νοῦν вАУ ἀποθέμενος τὴν πήραν καὶ τὸ τριβώνιον καὶ τὸ Ἡράκλειον ἐκεῖνο ῥόπαλον, ἔστη ἐν ὀθόνῃ ῥυπώσῃ ἀκριβῶς. εἶτα ᾔτει λιβανωτόν, ὡς ἐπιβάλοι ἐπὶ τὸ πῦρ, καὶ ἀναδόντος τινὸς ἐπέβαλέν τε καὶ εἶπεν ἐς τὴν μεσημβρίαν ἀποβλέπων вАУ καὶ γὰρ καὶ τοῦτвАЩ αὐτὸ πρὸς τὴν τραγῳδίαν ἦν, ἡ μεσημβρία вАУ вАЬΔαίμονες μητρῷοι καὶ πατρῷοι, δέξασθέ με εὐμενεῖς.вАЭ ταῦτα εἰπὼν ἐπήδησεν ἐς τὸ πῦρ, οὐ μὴν ἑωρᾶτό γε, ἀλλὰ περιεσχέθη ὑπὸ τῆς φλογὸς πολλῆς ἠρμένης.
XXXVII. Αὖθις ὁρῶ γελῶντά σε, ὦ καλὲ Κρόνιε, τὴν καταστροφὴν τοῦ δράματος. ἐγὼ δὲ τοὺς μητρῴους μὲν δαίμονας ἐπιβοώμενον μὰ τὸν ΔίвАЩ οὐ σφόδρα ᾐτιώμην· ὅτε δὲ καὶ τοὺς πατρῴους ἐπεκαλέσατο, ἀναμνησθεὶς τῶν περὶ τοῦ φόνου εἰρημένων οὐδὲ κατέχειν ἠδυνάμην τὸν γέλωτα. οἱ Κυνικοὶ δὲ περιστάντες τὴν πυρὰν οὐκ ἐδάκρυον μέν, σιωπῇ δὲ ἐνεδείκνυντο λύπην τινὰ εἰς τὸ πῦρ ὁρῶντες, ἄχρι δὴ ἀποπνιγεὶς ἐπвАЩ αὐτοῖς, вАЬἈπίωμεν,вАЭ φημί, вАЬὦ μάταιοι· οὐ γὰρ ἡδὺ τὸ θέαμα ὠπτημένον γέροντα ὁρᾶν κνίσης ἀναπιμπλαμένους πονηρᾶς. ἢ περιμένετε ἔστвАЩ ἂν γραφεύς τις ἐπελθὼν ἀπεικάσῃ ὑμᾶς οἵους τοὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἑταίρους τῷ Σωκράτει παραγράφουσιν;вАЭ ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἠγανάκτουν καὶ ἐλοιδοροῦντό μοι, ἔνιοι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς βακτηρίας ᾖξαν. εἶτα, ἐπειδὴ ἠπείλησα ξυναρπάσας τινὰς ἐμβαλεῖν εἰς τὸ πῦρ, ὡς ἂν ἕποιντο τῷ διδασκάλῳ, ἐπαύσαντο καὶ εἰρήνην ἦγον.
XXXVIII. Ἐγὼ δὲ ἐπανιὼν ποικίλα, ὦ ἑταῖρε, πρὸς ἐμαυτὸν ἐνενόουν, τὸ φιλόδοξον οἷόν τί ἐστιν ἀναλογιζόμενος, ὡς μόνος οὗτος ὁ ἔρως ἄφυκτος καὶ τοῖς πάνυ θαυμαστοῖς εἶναι δοκοῦσιν, οὐχ ὅπως ἐκείνῳ τἀνδρὶ καὶ τἄλλα ἐμπλήκτως καὶ ἀπονενοημένως βεβιωκότι καὶ οὐκ ἀναξίως τοῦ πυρός. XXXIX. εἶτα ἐνετύγχανον πολλοῖς ἀπιοῦσιν ὡς θεάσαιντο καὶ αὐτοί· ᾤοντο γὰρ ἔτι καταλήψεσθαι ζῶντα αὐτόν. καὶ γὰρ καὶ τόδε τῇ προτεραίᾳ διεδέδοτο ὡς πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἀσπασάμενος, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τοὺς Βραχμᾶνάς φασι ποιεῖν, ἐπιβήσεται τῆς πυρᾶς. ἀπέστρεφον δвАЩ οὖν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν λέγων ἤδη τετελέσθαι τὸ ἔργον, οἷς μὴ καὶ τοῦτвАЩ αὐτὸ περισπούδαστον ἦν, κἂν αὐτὸν ἰδεῖν τὸν τόπον καί τι λείψανον καταλαμβάνειν τοῦ πυρός.
Ἔνθα δή, ὦ ἑταῖρε, μυρία πράγματα εἶχον ἅπασι διηγούμενος καὶ ἀνακρίνουσιν καὶ ἀκριβῶς ἐκπυνθανομένοις. εἰ μὲν οὖν ἴδοιμί τινα χαρίεντα, ψιλὰ ἂν ὥσπερ σοὶ τὰ πραχθέντα διηγούμην, πρὸς δὲ τοὺς βλᾶκας καὶ πρὸς τὴν ἀκρόασιν κεχηνότας ἐτραγῴδουν τι παρвАЩ ἐμαυτοῦ, ὡς ἐπειδὴ ἀνήφθη μὲν ἡ πυρά, ἐνέβαλεν δὲ φέρων ἑαυτὸν ὁ Πρωτεύς, σεισμοῦ πρότερον μεγάλου γενομένου σὺν μυκηθμῷ τῆς γῆς, γὺψ ἀναπτάμενος ἐκ μέσης τῆς φλογὸς οἴχοιτο ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνθρωπιστὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ λέγων
вАЭἔλιπον γᾶν, βαίνω δвАЩ ἐς Ὄλυμπον.вАЭ
ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἐτεθήπεσαν καὶ προσεκύνουν ὑποφρίττοντες καὶ ἀνέκρινόν με πότερον πρὸς ἕω ἢ πρὸς δυσμὰς ἐνεχθείη ὁ γύψ· ἐγὼ δὲ τὸ ἐπελθὸν ἀπεκρινάμην αὐτοῖς.
XL. Ἀπελθὼν δὲ ἐς τὴν πανήγυριν ἐπέστην τινὶ πολιῷ ἀνδρὶ καὶ νὴ τὸν ΔίвАЩ ἀξιοπίστῳ τὸ πρόσωπον ἐπὶ τῷ πώγωνι καὶ τῇ λοιπῇ σεμνότητι, τά τε ἄλλα διηγουμένῳ περὶ τοῦ Πρωτέως καὶ ὡς μετὰ τὸ καυθῆναι θεάσαιτο αὐτὸν ἐν λευκῇ ἐσθῆτι μικρὸν ἔμπροσθεν, καὶ νῦν ἀπολίποι περιπατοῦντα φαιδρὸν ἐν τῇ ἑπταφώνῳ στοᾷ κοτίνῳ τε ἐστεμμένον. εἶτвАЩ ἐπὶ πᾶσι προσέθηκε τὸν γῦπα, διομνύμενος ἦ μὴν αὐτὸς ἑωρακέναι ἀναπτάμενον ἐκ τῆς πυρᾶς, ὃν ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἀφῆκα πέτεσθαι καταγελῶντα τῶν ἀνοήτων καὶ βλακικῶν τὸν τρόπον.
XLI. Ἐννόει τὸ λοιπὸν οἷα εἰκὸς ἐπвАЩ αὐτῷ γενήσεσθαι, ποίας μὲν οὐ μελίττας ἐπιστήσεσθαι ἐπὶ τὸν τόπον, τίνας δὲ τέττιγας οὐκ ἐπᾴσεσθαι, τίνας δὲ κορώνας οὐκ ἐπιπτήσεσθαι καθάπερ ἐπὶ τὸν Ἡσιόδου τάφον, καὶ τὰ τοιαῦτα. εἰκόνας μὲν γὰρ παρά τε Ἠλείων αὐτῶν παρά τε τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, οἷς καὶ ἐπεσταλκέναι ἔλεγεν, αὐτίκα μάλα οἶδα πολλὰς ἀναστησομένας. φασὶ δὲ πάσαις σχεδὸν ταῖς ἐνδόξοις πόλεσιν ἐπιστολὰς διαπέμψαι αὐτόν, διαθήκας τινὰς καὶ παραινέσεις καὶ νόμους· καί τινας ἐπὶ τούτῳ πρεσβευτὰς τῶν ἑταίρων ἐχειροτόνησεν, νεκραγγέλους καὶ νερτεροδρόμους προσαγορεύσας.
XLII. Τοῦτο τέλος τοῦ κακοδαίμονος Πρωτέως ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς βραχεῖ λόγῳ περιλαβεῖν, πρὸς ἀλήθειαν μὲν οὐδεπώποτε ἀποβλέψαντος, ἐπὶ δόξῃ δὲ καὶ τῷ παρὰ τῶν πολλῶν ἐπαίνῳ ἅπαντα εἰπόντος ἀεὶ καὶ πράξαντος, ὡς καὶ εἰς πῦρ ἁλέσθαι, ὅτε μηδὲ ἀπολαύειν τῶν ἐπαίνων ἔμελλεν ἀναίσθητος αὐτῶν γενόμενος.
XLIII. Ἓν ἔτι σοι προσδιηγησάμενος παύσομαι, ὡς ἔχῃς ἐπὶ πολὺ γελᾶν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ πάλαι οἶσθα, εὐθὺς ἀκούσας μου ὅτε ἥκων ἀπὸ Συρίας διηγούμην ὡς ἀπὸ Τρῳάδος συμπλεύσαιμι αὐτῷ καὶ τήν τε ἄλλην τὴν ἐν τῷ πλῷ τρυφὴν καὶ τὸ μειράκιον τὸ ὡραῖον ὃ ἔπεισε κυνίζειν ὡς ἔχοι τινὰ καὶ αὐτὸς Ἀλκιβιάδην, καὶ ὡς ἐπεὶ ταραχθείημεν τῆς νυκτὸς ἐν μέσῳ τῷ Αἰγαίῳ γνόφου καταβάντος καὶ κῦμα παμμέγεθες ἐγείραντος ἐκώκυε μετὰ τῶν γυναικῶν ὁ θαυμαστὸς καὶ θανάτου κρείττων εἶναι δοκῶν. XLIV. ἀλλὰ μικρὸν πρὸ τῆς τελευτῆς, πρὸ ἐννέα σχεδόν που ἡμερῶν, πλεῖον, οἶμαι, τοῦ ἱκανοῦ ἐμφαγὼν ἤμεσέν τε τῆς νυκτὸς καὶ ἑάλω πυρετῷ μάλα σφοδρῷ. ταῦτα δέ μοι Ἀλέξανδρος ὁ ἰατρὸς διηγήσατο μετακληθεὶς ὡς ἐπισκοπήσειεν αὐτόν. ἔφη οὖν καταλαβεῖν αὐτὸν χαμαὶ κυλιόμενον καὶ τὸν φλογμὸν οὐ φέροντα καὶ ψυχρὸν αἰτοῦντα πάνυ ἐρωτικῶς, ἑαυτὸν δὲ μὴ δοῦναι. καίτοι εἰπεῖν ἔφη πρὸς αὐτὸν ὡς εἰ πάντως θανάτου δέοιτο, ἥκειν αὐτὸν ἐπὶ τὰς θύρας αὐτόματον, ὥστε καλῶς ἔχειν ἕπεσθαι μηδὲν τοῦ πυρὸς δεόμενον· τὸν δвАЩ αὖ φάναι, вАЬἈλλвАЩ οὐχ ὁμοίως ἔνδοξος ὁ τρόπος γένοιτвАЩ ἂν, πᾶσιν κοινὸς ὤν.вАЭ
XLV. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. ἐγὼ δὲ οὐδвАЩ αὐτὸς πρὸ πολλῶν ἡμερῶν εἶδον αὐτὸν ἐγκεχρισμένον, ὡς ἀποδακρύσειε τῷ δριμεῖ φαρμάκῳ. ὁρᾷς; οὐ πάνυ τοὺς ἀμβλυωποῦντας ὁ Αἰακὸς παραδέχεται. ὅμοιον ὡς εἴ τις ἐπὶ σταυρὸν ἀναβήσεσθαι μέλλων τὸ ἐν τῷ δακτύλῳ πρόσπταισμα θεραπεύοι. τί σοι δοκεῖ ὁ Δημόκριτος, εἰ ταῦτα εἶδε; κατвАЩ ἀξίαν γελάσαι ἂν ἐπὶ τῷ ἀνδρί; καίτοι πόθεν εἶχεν ἐκεῖνος τοσοῦτον γέλωτα; σὺ δвАЩ οὖν, ὦ φιλότης, γέλα καὶ αὐτός, καὶ μάλιστα ὁπόταν τῶν ἄλλων ἀκούῃς θαυμαζόντων αὐτόν.
–†–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Р. –С. –Я–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞.
–Р–љ—В–Є—З–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞. вАФ
–Ь.: –Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ј–і–∞—В, 1990. вАФ –°—В—А. 245вАУ263.
–Э–∞ —Б–µ—А–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ –±–µ—Б—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –±–µ–Ј—Л–і–µ–є–љ–Њ–є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л II –≤. –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —П—А–Ї–Є–Љ –њ—П—В–љ–Њ–Љ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—Г—Б—В—Л—Е —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–µ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –і–∞–ї —А—П–і –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є—Е –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ, –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Л—Е, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —П–Ј–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —Е–ї–µ—Б—В–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—Д–ї–µ—В–Њ–≤, —В–Њ–љ–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А, –±–Є—З—Г—О—Й–Є—Е —Б–∞—В–Є—А, —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї–µ–є–Љ–Є–ї –њ—Г—Б—В–Њ–Ј–≤–Њ–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–Њ–і–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є —В—Г–њ–Њ—Б—В—М –ґ–∞–ї–Ї–Є—Е —Н–њ–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, –±–µ—Б—Ж–≤–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —А–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–≤. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П–Љ; –≤ —А—П–і–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤, –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ–і–µ–ї–Ї–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ–Њ–≤; –≤ –Ї—А—Г–≥ –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞ ¬Ђ–Ю —Б–Љ–µ—А—В–Є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞¬ї –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –ї—Г—З—И–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –Є–Ј –°–∞–Љ–Њ—Б–∞—В—Л, —Н—В–Њ—В –Т–Њ–ї—М—В–µ—А –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–Є–і–∞–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–є –Є —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-—П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤—Г –Є–љ–∞—З–µ, —З–µ–Љ –Ї –ї—О–±–Њ–Љ—Г –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ–љ –Є—Е –≤—Б–µ—Е –Њ—Б—Л–њ–∞–µ—В –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞ –Є—Е —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–µ, вАФ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ѓ–њ–Є—В–µ—А–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –•—А–Є—Б—В–∞; —Б –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ-—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є —В–Њ—В –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Є–і —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –љ–µ–ї–µ–њ—Л¬ї. –†–Є—Б—Г–µ–Љ–∞—П –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –±—Л—В–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Є –µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≥–ї—П–і–љ–∞, —З—В–Њ –љ–∞–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –љ–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —П—А–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–≥—А–∞—Д –• –≤. –°–≤–Є–і–∞ –њ–Њ–і —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ ¬Ђ–Ы—Г–Ї–Є–∞–љ¬ї –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –°–∞–Љ–Њ—Б–∞—В—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –±–Њ–≥–Њ—Е—Г–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Ј–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤—Ж–µ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –µ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–∞ –Є –љ–∞–і –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ... –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–Љ–µ—А, —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –ї–∞—П–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є—Б—В–Є–љ—Л. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –≤ ¬Ђ–Ц–Є—В–Є–Є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞¬ї –Њ–љ –љ–∞–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –±–Њ–≥–Њ—Е—Г–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤–µ—Ж, –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ч–∞ —Б–≤–Њ–є –ї–∞–є –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В —Г —Б–∞—В–∞–љ—Л –≤ —Г–і–µ–ї –≤–µ—З–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М¬ї.
–Ц–Є–Ј–љ–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞ –Я—А–Њ—В–µ—П, –њ—А–Њ–є–і–Њ—Е–Є, —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Ї–Є–љ–Є–Ї–∞, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Є –∞—Б–Ї–µ—В–∞, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П; –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ –љ–µ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–∞ вАФ –Ґ–∞—В–Є–∞–љ (–†–µ—З—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤, 25), –У–µ–ї–ї–Є–є (Noct. Att. VIII, 3; XII, 11), –Ґ–µ—А—В—Г–ї–ї–Є–∞–љ (ad martyr., 4), –§–Є–ї–Њ—Б—В—А–∞—В (Vita soph., 69 Kayser)[1].
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –њ–Є—Б–∞–ї —Б –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–µ—В —Б—А–µ–і—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ—Л; –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Ї–Є—В–∞–љ–Є—П—Е –Њ–љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є —Б—А–µ–і–Њ–є —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П; –µ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–µ–љ–љ–µ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –¶–µ–ї—М—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А—П–і –ї–Є –Њ–±—Й–∞–ї—Б—П —Б –Љ–∞—Б—Б–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –Є —З–µ—А–њ–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є–Ј –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Ю –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –°–∞–Љ–Њ—Б–∞—В–µ –≤ 120вАУ125 –≥–≥. –≤ –±–µ–і–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –±—Л–ї –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —А–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і—П–і–µ вАФ –Ї–∞–Љ–µ–љ–Њ—В–µ—Б—Г –Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А—Г. –†–∞–Ј–±–Є–≤ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–ї–Є—В—Г –Є –±–Њ—П—Б—М –≥–љ–µ–≤–∞ –і—П–і–Є, –Њ–љ –±–µ–ґ–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М. –Ю–љ —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В—М—Б—П –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—О. –Ю –µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ, —Е–Њ—В—П –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–є, –Њ–љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–Њ–≤ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є —П–Ј—Л–Ї: –њ–Њ –њ–Њ–і—Б—З–µ—В—Г –Т. –®–Љ–Є–і—В–∞, –Њ–љ –Њ–њ–µ—А–Є—А—Г–µ—В 10 400 —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Я–ї–∞—В–Њ–љ, –Є–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ 9900.
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –≤ —И–Ї–Њ–ї–∞—Е —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Є, –Њ–љ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–∞–Љ —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ–ї –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ—Д–Є—Б—В–∞, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –У—А–µ—Ж–Є–Є —Б –ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є. –Т 165 –≥. –Њ–љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Р—Д–Є–љ–∞—Е, –≥–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Э–∞ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є –ї–µ—В –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і—М–Є –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ. –Ю –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≥–Њ–і–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–∞, –Њ–± –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Є –і–∞—В–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ; –љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –µ–Љ—Г 82 –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В 48, –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–љ—Л 7, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 27 —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –Ы—Г—З—И–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ, –Є–Љ–Є –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, –∞ –†–∞–±–ї–µ –Є –°–≤–Є—Д—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Е –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–∞—В–Є—А. –Э–Њ, —Е–Њ—В—П –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –Ј–∞—В–Љ–Є–ї –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–µ–±—П —Б–Њ—Д–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–љ —Б–∞–Љ –±—Л–ї —Б—Л–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Є, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –±—Г–і—Г—З–Є —Б–∞–Љ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ —П—А–Ї–Є–Љ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л–Љ, –Њ–љ –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї –і–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –љ–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А–∞–ї–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Ю–љ –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –љ–Є –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ, –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–µ–±–µ; –љ–Њ –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ —Б–Ї–µ–њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Љ–µ—А–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–Љ–µ—И–µ–Ї, –Ї–∞–Ї –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є. –Ю–љ —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –±–Њ–≥–Њ–≤, –≤—Л—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–µ—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–∞–µ—В —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ–Њ–≤, –Є–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–і –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ, –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–Ї–Њ–њ–Є–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–µ —Й–∞–і–Є—В –Є —В–µ—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, вАФ –≠–њ–Є–Ї—Г—А–∞, –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В–∞, –Я–Є—Д–∞–≥–Њ—А–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е. –Т –і–Є–∞–ї–Њ–≥–µ ¬ЂVitarum auctio¬ї –Њ–љ –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г —Б –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ –°–Њ–Ї—А–∞—В –Є–і–µ—В –Ј–∞ 2 —В–∞–ї–∞–љ—В–∞, –Я–Є—Д–∞–≥–Њ—А вАФ –Ј–∞ 10 –Љ–Є–љ, –Ф–Є–Њ–≥–µ–љ вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ 2 –Њ–±–Њ–ї–∞, –∞ –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В–∞ –Є –і–∞—А–Њ–Љ –љ–µ –±–µ—А—Г—В. –°–≤–Њ—О –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї—Г—О —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –Њ–љ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –≤ ¬Ђ–У–µ—А–Љ–Њ—В–Є–Љ–µ¬ї: ¬Ђ–С—Л—В—М —В—А–µ–Ј–≤—Л–Љ –Є –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—М¬ї...
¬Ђ–Ю –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞¬ї –Љ—Л –і–∞–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –њ–Њ–і —А–µ–і. –§. –Ч–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є–Ј–і. –°–∞–±–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е. –Ь., 1915.
–Р. –С. –†–∞–љ–Њ–≤–Є—З
–Ы—Г–Ї–Є–∞–љ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –Ъ—А–Њ–љ–Є—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П.
1. –°–Њ –Ј–ї–Њ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–Њ–Љ, –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї —Б–µ–±—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ, –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Є —Б –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ[2]. –†–∞–і–Є —Б–ї–∞–≤—Л –Њ–љ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –±—Л—В—М –≤—Б–µ–Љ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М: –≤–Њ—В –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ –ґ–∞–ґ–і–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л! –Ш—В–∞–Ї, —В–µ–њ–µ—А—М —Б–µ–є –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ—Л–є –Љ—Г–ґ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ –≤ —Г–≥–Њ–ї—М –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –≠–Љ–њ–µ–і–Њ–Ї–ї–∞[3], —Б —В–Њ—О –ї–Є—И—М —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є, —З—В–Њ –≠–Љ–њ–µ–і–Њ–Ї–ї, –±—А–Њ—Б–∞—П—Б—М –≤ –Ї—А–∞—В–µ—А –≠—В–љ—Л, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Н—В–Њ —Б–Ї—А—Л—В—М, –Њ–љ –ґ–µ, —Г–ї—Г—З–Є–≤ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ–Њ–µ –Є–Ј —Н–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є, –љ–∞–≤–∞–ї–Є–ї –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–µ–є—И–Є–є –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П —В—Г–і–∞ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Е—Б—П. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї –њ–µ—А–µ–і —Н–ї–ї–Є–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —А–µ—З—М.
2. –Т–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О, –Ї–∞–Ї —В—Л –±—Г–і–µ—И—М —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П –Њ—В –і—Г—И–Є –љ–∞–і –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М—О —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞—И–Ї–Є. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —П —Б–ї—Л—И—Г —В–≤–Њ–Є –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ —П –≤ –њ—А–∞–≤–µ –Њ—В —В–µ–±—П –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М: ¬Ђ–І—В–Њ –Ј–∞ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –≥–ї—Г–њ–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–љ—П –Ј–∞ —Б–ї–∞–≤–Њ–є!¬ї –Ч–∞ —Н—В–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г –љ–∞—Б –≤—Л—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є –≤–Є–і–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Э–Њ —В—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤—Б–µ —Н—В–Њ –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—П—Б—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–∞, –µ—Й–µ —А–∞–љ—М—И–µ –њ–µ—А–µ–і –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–µ–є—И–µ–є —В–Њ–ї–њ–Њ–є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, –∞ –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ –љ–∞—И–ї–Є—Б—М –Є —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —Б–∞–Љ–Є —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –љ–Є–Љ. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л-—Б–Њ–±–∞–Ї–Є[4] —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є –Р–Ї—В–µ–Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Ї–Є –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ–љ—Д–µ—П[5].
3. –•–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–≤. –Р–≤—В–Њ—А–∞ –µ–µ —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ —Б–Њ—З–Є–љ–Є–ї –і—А–∞–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є–і—П —Н—В–Є–Љ –і–∞–ґ–µ –°–Њ—Д–Њ–Ї–ї–∞ –Є –≠—Б—Е–Є–ї–∞. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–љ—П, —В–Њ —П, –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –≠–ї–Є–і—Г[6], —Б—В–∞–ї —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б–Є—О, —Б–ї—Г—И–∞—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї–Є–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ, —Е—А–Є–њ–ї—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –≤–Њ–њ–Є–ї –Њ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е, –Є–Ј–±–Є—В—Л—Е –≤–µ—Й–∞—Е, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –Ї –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є, –Є –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї. –°–≤–Њ—О —А—Г–≥–∞–љ—М –Њ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –љ–∞ –Я—А–Њ—В–µ–µ. –ѓ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—О—Б—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ–Њ–≥—Г, —В–Њ—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –њ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М. –Ґ—Л –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–∞—Е —Н—В–Є—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤.
4. –Ъ–Є–љ–Є–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Э–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Љ–µ—О—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Я—А–Њ—В–µ—П —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ! –Ю –Љ–∞—В—М-–Ј–µ–Љ–ї—П, –Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Њ —А–µ–Ї–Є, –Њ –Љ–Њ—А–µ, –Є —В—Л, –Њ—В—З–Є–є –У–µ—А–∞–Ї–ї! –Ш —Н—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –Я—А–Њ—В–µ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Є–і–µ–ї –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≤ –°–Є—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї —А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г –њ—П—В—М —В—Л—Б—П—З —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤[7], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ –Є–Ј –†–Є–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П—Б–љ–µ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ–є –Ю–ї–Є–Љ–њ–∞! –†–µ—И–Є–ї –Я—А–Њ—В–µ–є —Г–і–∞–ї–Є—В—М—Б—П –Є–Ј —Н—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Њ–≥–љ—П вАФ –≤–Њ—В –Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В —Н—В–Њ –µ–≥–Њ —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–Є—О. –Р —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –У–µ—А–∞–Ї–ї? –†–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –Њ—В –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Р—Б–Ї–ї–µ–њ–љ–Є–є –Є –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б? –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≠–Љ–њ–µ–і–Њ–Ї–ї –≤ –њ–ї–∞–Љ—П –Ї—А–∞—В–µ—А–∞?¬ї
5. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –§–µ–∞–≥–µ–љ вАФ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Љ—П –Ї—А–Є–Ї—Г–љ–∞ вАФ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–≥–љ—П –Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї –Я—А–Њ—В–µ—О –У–µ—А–∞–Ї–ї —Б –≠–Љ–њ–µ–і–Њ–Ї–ї–Њ–Љ? –Ґ–Њ—В –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Я—А–Њ—В–µ–є —Б–њ—Г—Б—В—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–ґ–ґ–µ—В —Б–µ–±—П –љ–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є–≥—А–∞—Е¬ї. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї, —З–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є?¬ї вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–є —Б–Њ—Б–µ–і –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Њ –Ї–Є–љ–Є–Ї —В–∞–Ї –Ї—А–Є—З–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї—Г—И–∞—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –њ–Њ—В–Њ–Ї —А–µ—З–Є –Ї–Є–љ–Є–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Я—А–Њ—В–µ—П. –Ъ–Є–љ–Є–Ї –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Б –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ф–Є–Њ–≥–µ–љ–∞ –°–Є–љ–Њ–њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ[8] –Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П –Р–љ—В–Є—Б—Д–µ–љ–∞, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞. –Ч–µ–≤—Б–∞ –Њ–љ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤—Б–µ –ґ–µ –µ–Љ—Г –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞—Б—Б—Г–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Ч–µ–≤—Б–∞ —А–∞–≤–љ—Л–Љ —Б –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ, –Є —А–µ—З—М —Б–≤–Њ—О –Њ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї:
6. ¬Ђ–Ц–Є–Ј–љ—М, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, вАФ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –і–≤–∞ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАФ –Ч–µ–≤—Б–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Я—А–Њ—В–µ—П; —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є: –Ч–µ–≤—Б–∞ вАФ –§–Є–і–Є–є, –∞ –Я—А–Њ—В–µ—П вАФ –Я—А–Є—А–Њ–і–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–і–∞–ї–Є—В—Б—П, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—П –љ–∞ –Њ–≥–љ–µ, –Њ—В –ї—О–і–µ–є –Ї –±–Њ–≥–∞–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –љ–∞—Б –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–ї—Л–Љ–Є¬ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ, –Њ–±–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї, —В–Њ —Б—В–∞–ї —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –Є —А–≤–∞—В—М –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–љ—Г—В—М –Є—Е. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–≤–µ–ї–Є —А—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –µ–≥–Њ —Г—В–µ—И–Є—В—М.
7. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ—А–∞—В–Њ—А, вАФ –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ —В–Њ–ї–њ–∞ —А–∞–Ј–Њ–є–і–µ—В—Б—П, вАФ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—Л–ї–∞—О—Й—Г—О –µ—Й–µ –ґ–µ—А—В–≤—Г –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б—В–∞–ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є –§–µ–∞–≥–µ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–≥–∞–љ—Г—О —А–µ—З—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –У–µ—А–∞–Ї–ї–Є—В–∞, —В–Њ —П, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –љ–∞—З–љ—Г —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В–∞[9]¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –Њ–љ –Њ–њ—П—В—М —Б—В–∞–ї –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–∞—Б –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ –ґ–µ.
8. –Ч–∞—В–µ–Љ, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—И–∞–µ—И—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Л–µ —А–µ—З–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є—И—М, —З—В–Њ –њ–Њ–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є —А–∞–і–Є –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—Л —З—Г—В—М –љ–µ –Ї—Г–≤—Л—А–Ї–∞—В—М—Б—П —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е? –Р —З—В–Њ–±—Л –≤—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Њ —Б–µ–±—П —Б–ґ–µ—З—М, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ –Љ–µ–љ—П, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Я—А–Њ—В–µ—П –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–µ –≤–µ—Й–Є —П —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ—В –µ–≥–Њ —Б–Њ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—В—М.
9. –≠—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –Я–Њ–ї–Є–Ї–ї–µ—В–Њ–≤–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞[10], –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Њ –µ—Й–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г–ґ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–є–Љ–∞–љ–Њ –≤ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–і–µ—П–љ–Є–Є. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Я—А–Њ—В–µ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Г–і–∞—А–Њ–≤, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Є–Ј–±–µ–≥ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ—А—Л–≥–љ—Г–≤ —Б –Ї—А—Л—И–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–µ–і—М–Ї—Г –≤ —Е–≤–Њ—Б—В. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ —Б–Њ–≤—А–∞—В–Є–ї –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Ж–≤–µ—В—Г—Й–µ–≥–Њ —О–љ–Њ—И—Г, –љ–Њ –Њ—В–Ї—Г–њ–Є–ї—Б—П –Њ—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є –±–µ–і–љ—Л–µ, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –Р–Ј–Є–Є.
10. –Э–Њ —Н—В–Њ –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —А–Њ–і–µ —П –і—Г–Љ–∞—О –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ: –≤–µ–і—М —В–Њ–≥–і–∞ –Я—А–Њ—В–µ–є –±—Л–ї –µ—Й–µ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї–Є–љ–Њ–є, –∞ –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Р –≤–Њ—В —З—Вó –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М; —Е–Њ—В—П, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –≤—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –Є –Ј–љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–∞–і—Г—И–Є–ї —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є, —З—В–Њ —В–Њ—В, —Б—В–∞—А–µ—П, –і–Њ—Б—В–Є–≥ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —Б—В–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –Я—А–Њ—В–µ–є –Њ—Б—Г–і–Є–ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–µ –Є –±—А–Њ–і–Є–ї –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ.
11. –Ґ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Њ–љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—П—Б—М –≤ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–µ —Б –Є—Е –ґ—А–µ—Ж–∞–Љ–Є –Є –Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ш —З—В–Њ –ґ–µ –≤—Л—И–ї–Њ? –Т —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –љ–Є–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –Є –≥–ї–∞–≤–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є, вАФ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –±—Л–ї –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –≤—Б–µ–Љ. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ї–љ–Є–≥, —В–Њ –Њ–љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–ї, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї –Є—Е, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є —Б–∞–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–Є–ї. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥–∞, –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–Є –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Є –Є–Ј–±—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ...[11]
12. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Я—А–Њ—В–µ–є –±—Л–ї —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –љ–Є–Љ –Є –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г; –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–і–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤–µ—Б—Г –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–ї—П —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ–≥–Њ–љ–Є –Ј–∞ —Б–ї–∞–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –ґ–∞–ґ–і–∞–ї. –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я—А–Њ—В–µ–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, —Б—З–Є—В–∞—П —Н—В–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ, –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –≤—Б–µ –≤ —Е–Њ–і, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—Л—А–≤–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —Н—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, —В–Њ –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Б –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ј–∞ –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ. –£–ґ–µ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Г—В—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–µ—В—М —Г —В—О—А—М–Љ—Л –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —Б—В–∞—А—Г—Е, –≤–і–Њ–≤ –Є –і–µ—В–µ–є-—Б–Є—А–Њ—В. –У–ї–∞–≤–∞—А–Є –ґ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –і–∞–ґ–µ –љ–Њ—З–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ –≤ —В—О—А—М–Љ–µ, –њ–Њ–і–Ї—Г–њ–Є–≤ —Б—В—А–∞–ґ—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В—Г–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –Њ–±–µ–і—Л –Є–Ј —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –±–ї—О–і –Є –≤–µ—Б—В–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л. –Я–Њ—З—В–µ–љ–љ—Л–є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –µ—Й–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —Н—В–Њ –Є–Љ—П вАФ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Г –љ–Є—Е –љ–Њ–≤—Л–Љ –°–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–Љ.
13. –Ш, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В –Љ–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–Є–љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г, –Ј–∞–Љ–Њ–ї–≤–Є—В—М –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Њ –љ–∞ —Б—Г–і–µ –Є —Г—В–µ—И–Є—В—М –µ–≥–Њ. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Г—О –±—Л—Б—В—А–Њ—В—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –ґ–∞–ї–µ—О—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ—Г –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤–≤–Є–і—Г –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ —В—О—А—М–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤. –Т–µ–і—М —Н—В–Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–µ —Г–≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–µ–±—П, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ—Г—В –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ–Є –Є –±—Г–і—Г—В –≤–µ—З–љ–Њ –ґ–Є—В—М; –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є –Є –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—О—В —Б–Љ–µ—А—В—М, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і–∞–ґ–µ –Є—Й—Г—В –µ–µ —Б–∞–Љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–≤—Л–є –Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–ї–Є–ї –≤ –љ–Є—Е —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—А–∞—В—М—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ—В—А–µ–Ї—Г—В—Б—П –Њ—В —Н–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є —Б—В–∞–љ—Г—В –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Д–Є—Б—В—Г –Є –ґ–Є—В—М –њ–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –≤—Б–µ –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—О—В –Є [–≤—Б–µ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ][12] —Б—З–Є—В–∞—О—В –Њ–±—Й–Є–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤.
–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Њ–±–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї, –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, —Г–Љ–µ—О—Й–Є–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, вАФ –Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ, –Є–Ј–і–µ–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–і –њ—А–Њ—Б—В–µ—Ж–∞–Љ–Є.
14. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–Љ—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ—Г. –Ю–љ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –°–Є—А–Є–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї –Ј–∞–љ—П—В–Є—П–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —И–∞–ї—Л–є, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Є–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П —Б–ї–∞–≤—Г, –Њ–љ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї –µ–≥–Њ —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, –љ–Њ –љ–∞—И–µ–ї, —З—В–Њ –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –Њ—В—Ж–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –Њ—Б—В—Л–ї–Њ –Є —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ —Б –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –µ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—Е–Є—Й–µ–љ–∞ –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ, вАФ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤. –Ф–∞ –Є –≤—Б–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 30 —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤, –∞ –љ–µ 5000, –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ—А—П–ї —Н—В–Њ—В —Б–Ї–Њ–Љ–Њ—А–Њ—Е –§–µ–∞–≥–µ–љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤—Л—А—Г—З–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –±—Л –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–і–∞—В—М –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і –њ–∞—А–Є–∞–љ —Б –њ—П—В—М—О —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–Љ, –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ–Є.
15. –Э–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–±–ї–Є—З–∞—О—Й–∞—П –Љ–Њ–ї–≤–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –µ—Й–µ –Њ—Б—В—Л—В—М, –Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–µ—И–Ї–∞—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ; –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і, —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—П –Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ј–љ–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–њ—А–Њ—И—Г –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—И–µ–ї –љ–∞—И –Љ—Г–і—А–µ—Ж –Я—А–Њ—В–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Њ—В–µ–є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–∞—А–Є–∞–љ, вАФ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї —Г–ґ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, –Ј–∞–Ї—Г—В–∞–љ –±—Л–ї –≤ –њ–ї–∞—Й, —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ —Б—Г–Љ–Ї–∞, –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –±—Л–ї–∞ —Б—Г–Ї–Њ–≤–∞—В–∞—П –њ–∞–ї–Ї–∞, –Њ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ вАФ –≤–Є–і –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є; –Є –≤–Њ—В, —П–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Ї –љ–∞—А–Њ–і—Г, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –і–∞—А–Є—В –Њ–±—Й–Є–љ–µ –њ–∞—А–Є–∞–љ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж. –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–µ –Є–Ј –ї—О–і–µ–є –±–µ–і–љ—Л—Е –Є –ґ–∞–і–љ—Л—Е –і–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–Є–Ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –ї—О–±—П—Й–Є–є —Б–≤–Њ—О —А–Њ–і–Є–љ—Г, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ф–Є–Њ–≥–µ–љ–∞ –Є –Ъ—А–∞—В–µ—В–∞[13]. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—А–∞–≥–∞–Љ —А–Њ—В –±—Л–ї –Ј–∞–ґ–∞—В, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–µ—А–Ј–љ—Г–ї –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–± —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ, —В–Њ –Њ–љ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –±—Л –њ–Њ–±–Є—В –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є.
16. –Ш—В–∞–Ї, –Я—А–Њ—В–µ–є –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б–Ї–Є—В–∞—В—М—Б—П. –•–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і–ї—П –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Є—П –њ—Г—В–µ–≤—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї –≤ –ї–Є—Ж–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –њ–Њ–і –Њ—Е—А–∞–љ–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–љ –≤–µ–ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ вАФ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ –≤ –µ–і–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ —Г –љ–Є—Е –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, вАФ –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Љ–Є –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ. –С—Г–і—Г—З–Є –≤ —Б—В–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї –Ј–∞—В—П–љ—Г—В—М –і—А—Г–≥—Г—О –њ–µ—Б–љ—О –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ–Њ–і–∞–ї –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –Э–Њ –≥–Њ—А–Њ–і –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –Є –Я—А–Њ—В–µ–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П: –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ–±—А–Њ–є –≤–Њ–ї–µ.
17. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Й–µ–є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –≤ –Х–≥–Є–њ–µ—В –Ї –Р–≥–∞—Д–Њ–±—Г–ї—Г. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є: —Б–±—А–Є–ї –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Љ–∞–Ј–∞–ї –ї–Є—Ж–Њ –≥—А—П–Ј—М—О, –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ—Л –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ —Б–µ–±–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—Г—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є[14], –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–Њ—Б—В—М—О —Б–µ–Ї –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є —В–µ–ї–∞ —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –Є —Б–∞–Љ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –і–ї—П —Б–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є; –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–ї–µ–њ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є.
18. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–≤ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –Њ—В–њ–ї—Л–ї –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О. –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ —Б–Њ—И–µ–ї —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Ї–∞–Ї —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤—Б–µ—Е, –∞ –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–Њ—В–Њ–Ї –Є –љ–µ –Њ–±–Є–і—З–Є–≤, —В–∞–Ї —З—В–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В, –Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П –Њ –µ–≥–Њ –±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞ —А–µ—З–Є –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б–ї–Є —Е—Г–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ–Љ. –Э–Њ —Б–ї–∞–≤–∞ –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–∞–ґ–µ –Є –Њ—В —В–∞–Ї–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є: –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ –Њ–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Д–µ–Ї—В, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–Љ–љ—Л–є, –≤—Л—Б–ї–∞–ї –Я—А–Њ—В–µ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Љ–µ—А—Г, –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–µ. –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –і–ї—П —Б–ї–∞–≤—Л –Я—А–Њ—В–µ—П, –Є —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞ —Г—Б—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ –Є–Љ—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞, –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ—А–µ—З–Є–µ –Є –±–µ–Ј–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Г—О –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ—Б—В—М. –° —Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б –Ь—Г–Ј–Њ–љ–Є–µ–Љ, –Ф–Є–Њ–љ–Њ–Љ –Є –≠–њ–Є–Ї—В–µ—В–Њ–Љ[15], –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В—М.
19. –ѓ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –≠–ї–ї–∞–і—Г, –Я—А–Њ—В–µ–є —В–Њ –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї —Н–ї–µ–є—Ж–µ–≤, —В–Њ —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Є–Љ–ї—П–љ, —В–Њ –Ј–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї –Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ[16] –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—В –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –У—А–µ—Ж–Є–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—П–љ–Є–є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –≤–Њ–і—Г –≤ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–Є –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤–Њ–і—Л —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–∞. –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –Є–Ј–љ–µ–ґ–Є–ї —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤ –Є —З—В–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є–≥—А –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Г–Љ–µ—В—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—М –ґ–∞–ґ–і—Г, —Е–Њ—В—П –±—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Г–Љ–Є—А–∞–ї–Є –Њ—В –ї—О—В—Л—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А —Б–≤–Є—А–µ–њ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –≤–Њ–і—Л –Є —Б–Ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ш —Н—В–Њ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —Б–∞–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В–Њ–є –ґ–µ –≤–Њ–і–Њ–є! –Т—Б–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б–±–µ–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Є —З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–±–Є–ї–Є –Я—А–Њ—В–µ—П –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ—В –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є –Љ—Г–ґ –Є—Б–Ї–∞–ї —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ —Г –∞–ї—В–∞—А—П –Ч–µ–≤—Б–∞ –Є —В–∞–Љ –љ–∞—И–µ–ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Б–Љ–µ—А—В–Є.
20. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –ґ–µ –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–µ –Њ–љ –њ—А–Њ—З–µ–ї –њ–µ—А–µ–і —Н–ї–ї–Є–љ–∞–Љ–Є —А–µ—З—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–Њ—З–Є–љ–Є–ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е –ї–µ—В[17]. –†–µ—З—М —Н—В–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Г –ї–Є—Ж—Г, –њ—А–Њ–≤–µ–і—И–µ–Љ—Г –≤–Њ–і—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –±–µ–≥—Б—В–≤–∞. –С—Г–і—Г—З–Є —Г –≤—Б–µ—Е –≤ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є, вАФ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Ї–Є —Г–ґ–µ —Г—Б—В–∞—А–µ–ї–Є, вАФ –Я—А–Њ—В–µ–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, —З–µ–Љ –±—Л –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В—М –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –Њ —З–µ–Љ –Њ–љ —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П; –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–љ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї —Н—В—Г –Ј–∞—В–µ—О —Б –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –Є–≥—А —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї —Б—А–µ–і–Є —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤ —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–ґ–ґ–µ—В —Б–µ–±—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤.
21. –Ш –≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Њ–љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Г—О –Ј–∞—В–µ—О; —А–Њ–µ—В —П–Љ—Г, –љ–Њ—Б–Є—В –і—А–Њ–≤–∞ –Є –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Р –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –њ–µ—А–≤–Њ–є –µ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –∞ –љ–µ —Г–і–Є—А–∞—В—М –Њ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ —Г–ґ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ —А–µ—И–Є–ї –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–µ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—В—М –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Њ–≥–љ—П –Є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–±—А–∞—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Б–Љ–µ—А—В–Є, –±–ї–∞–≥–Њ –Є—Е –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –њ—Г—Б—В—М –µ–Љ—Г –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –Њ–≥–Њ–љ—М, –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞, вАФ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –µ–Љ—Г –≤—В–Є—Е–Њ–Љ–Њ–ї–Ї—Г –љ–µ –Є–Ј–±—А–∞—В—М –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Г—О –ї–µ—Б–Њ–Љ –≥–Њ—А—Г –Є –љ–µ —Б–ґ–µ—З—М —Б–µ–±—П —В–∞–Љ, –≤–Ј—П–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –§–Є–ї–Њ–Ї—В–µ—В–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –≤–Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –§–µ–∞–≥–µ–љ–∞[18]? –Э–Њ –љ–µ—В, –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –Ј–∞–ґ–∞—А–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–Є —Б—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–∞ –Є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–ї—П–љ—Г—Б—М –У–µ—А–∞–Ї–ї–Њ–Љ, —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—Ж–µ—Г–±–Є–є—Ж—Л –Є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–µ—Б—В–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Њ–љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–µ—В. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є–µ, –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –±—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –≤ –±—Л–Ї–∞ –§–∞–ї–∞—А–Є–і–∞[19], –∞ –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М —Б–µ–±—П –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤ —А–Њ—В –љ–∞ –Њ–≥–Њ–љ—М. –Т–µ–і—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г–≤–µ—А—П—О—В, —З—В–Њ –љ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В –Њ–≥–љ—П: —Б—В–Њ–Є—В –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–Њ—В, –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–µ—А—В–≤.
22. –Ю–љ –ґ–µ –≤–і–Њ–±–∞–≤–Њ–Ї, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, –±—Г–і—В–Њ –Ј–∞—В–µ–≤–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ вАФ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ! –Т—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ–Ї—В–Њ, —В–Њ–ґ–µ –ґ–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Є –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, —Б–ґ–µ–≥ —Е—А–∞–Љ –Р—А—В–µ–Љ–Є–і—Л –≠—Д–µ—Б—Б–Ї–Њ–є[20]. –Э–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –Є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ: —Б—В–Њ–ї—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–∞—Б—В—М –Ї —Б–ї–∞–≤–µ –Њ–±—Г—П–ї–∞ –µ–≥–Њ.
23. –Ю–љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Г–≤–µ—А—П–µ—В, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ —А–∞–і–Є –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Г—З–Є—В—М –Є—Е –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П. –ѓ –±—Л –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вАФ –љ–µ –µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –∞ –≤–∞–Љ: –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—Л –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї–Є –±—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Г—Б–≤–Њ–Є–ї–Є —Н—В–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є, –њ—Л—В–Ї–µ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є —В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ —Г–ґ–∞—Б–∞–Љ? –ѓ —В–≤–µ—А–і–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –≤—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Я—А–Њ—В–µ–є —А–∞–Ј–±–µ—А–µ—В—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–љ–µ—В –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ, –љ–µ –і–µ–ї–∞—П —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л—Е –±–Њ–ї–µ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є?
24. –Э–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–є–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ—В –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —П –≤–∞–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ—Г –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: —Е–Њ—В–Є—В–µ –ї–Є –≤—Л, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞—И–Є –і–µ—В–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞? –Т—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М ¬Ђ–і–∞¬ї. –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї —З–µ–Љ—Г —П —Н—В–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О, —А–∞–Ј –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В—М —Г—З–Є—В–µ–ї—О? –Ш –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ —Г–њ—А–µ–Ї–љ—Г—В—М –§–µ–∞–≥–µ–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ, –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—П —Г—З–Є—В–µ–ї—О –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ, –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є –љ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В –µ–≥–Њ ¬Ђ–љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –У–µ—А–∞–Ї–ї—Г¬ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Є–Љ–µ—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –Њ—З–µ—А—В—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–∞–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М. –Я–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ –≤–µ–і—М –љ–µ –≤ —Б—Г–Љ–Ї–µ, –њ–∞–ї–Ї–µ –Є —А—Г–±–Є—Й–µ[21] вАФ —Н—В–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ; –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Є, —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Є–Ј –Ї–Њ–ї–Њ–і –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Л—А–Њ–≥–Њ —Д–Є–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, –Ј–∞–і–Њ—Е–љ—Г—В—М—Б—П –Њ—В –і—Л–Љ–∞. –Т–µ–і—М –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –У–µ—А–∞–Ї–ї–Њ–Љ –Є –Р—Б–Ї–ї–µ–њ–Є–µ–Љ, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є —Г–±–Є–є—Ж–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М —Б–Њ–ґ–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ —Б–Љ–µ—А—В—М –Њ—В –і—Л–Љ–∞: —Н—В–Њ –±—Л–ї –±—Л –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–Љ–Є.
25. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞, —В–Њ –Њ–љ —Е–Њ—В—П –Є —А–µ—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ, –љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, —Б–љ–µ–і–∞–µ–Љ—Л–є –Ї—А–Њ–≤—М—О –Ї–µ–љ—В–∞–≤—А–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П[22]. –Э—Г, –∞ –Я—А–Њ—В–µ–є —З–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є –њ–Њ–є–і–µ—В –±—А–Њ—Б–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М? –Р –≤–Њ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–∞–Љ, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –±—А–∞—Е–Љ–∞–љ–Њ–≤; –≤–µ–і—М –§–µ–∞–≥–µ–љ –љ–∞—И–µ–ї –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –Є —Б –љ–Є–Љ–Є –µ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –Є–љ–і–Є–є—Ж–µ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–ї—Г–њ—Л—Е –Є —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є! –Э–Њ —Г–ґ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—Г—Б—В—М –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є–Љ. –Ґ–µ –љ–µ –њ—А—Л–≥–∞—О—В –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ—А—П–µ—В –Ї–Њ—А–Љ—З–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ю–љ–µ—Б–Є–Ї—А–Є—В[23], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Є–і–µ–ї —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–ї–∞–љ–∞, –∞, —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–≤ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, —Б—В–Њ—П—В –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Є –і–∞—О—В —Б–µ–±—П –њ–Њ–і–ґ–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О –Њ—Б–∞–љ–Ї—Г –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—О, –љ–µ –і–µ–ї–∞—П –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Р –µ—Б–ї–Є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –±—А–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Є —Г–Љ—А–µ—В, –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ? –Ф–∞ –Є –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–≥–Њ—А–µ–ї—Л–Љ –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –љ–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В –Ї–Њ—Б—В—А–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —П–Љ–µ.
26. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –Я—А–Њ—В–µ–є –њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞–ї –Є –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–µ—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Ч–µ–≤—Б –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ—П—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ–≥–Њ, —В–Њ –њ—Г—Б—В—М –Њ–љ –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П. –ѓ –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–ї—П—В–≤—Г, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –±–Њ–≥–Њ–≤ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є –ґ–∞–ї–Ї–Є–є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ –µ–Љ—Г –Є–і—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–њ—П—В–љ—Г—О; –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ –µ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—О—В –µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—В –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М, –њ–Њ–і–Њ–≥—А–µ–≤–∞—П –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Њ–≤ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Я—А–Њ—В–µ–є, –±—А–Њ—Б–∞—П—Б—М –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М, —Г–≤–ї–µ–Ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –њ–∞—А–Њ—З–Ї—Г –Є–Ј –љ–Є—Е, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ.
27. –ѓ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –≤ –§–µ–љ–Є–Ї—Б–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є –§–µ–љ–Є–Ї—Б, –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—В–Є—Ж–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В –љ–µ–±—Л–ї–Є—Ж—Л –Є —В–Њ–ї–Ї—Г–µ—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ—А–∞–Ї—Г–ї—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ, –±—Г–і—В–Њ –µ–Љ—Г —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –љ–Њ—З–љ—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–Љ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –ѓ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–ґ–µ –і–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–µ–±–µ –∞–ї—В–∞—А–µ–є –Є –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –±—Г–і—Г—В –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞.
28. –Ш –њ—А–∞–≤–Њ, –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≥–ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ –љ–∞–є–і—Г—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–і—Г—В —Г–≤–µ—А—П—В—М, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Я—А–Њ—В–µ—П –Є—Б—Ж–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–Є –Є –љ–Њ—З—М—О –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б ¬Ђ–љ–Њ—З–љ—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–Љ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ¬ї. –Я—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–µ –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є —Г—Б—В—А–Њ—П—В, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –Є —Е—А–∞–Љ —Г –Љ–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–∞, –Є –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞–ї–Є—Й–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Я—А–Њ—В–µ–є, —Б—Л–љ –Ч–µ–≤—Б–∞, —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є, –±—Л–ї –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –ѓ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ—А—П—О, —З—В–Њ –Я—А–Њ—В–µ—О –±—Г–і—Г—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –ґ—А–µ—Ж—Л —Б –±–Є—З–∞–Љ–Є, –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є–ґ–Є–≥–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Є, –Ї–ї—П–љ—Г—Б—М –Ч–µ–≤—Б–Њ–Љ, –≤ —З–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—В —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л –Љ–Є—Б—В–µ—А–Є–Є –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ —Б–≤–µ—В–Њ—З–∞–Љ–Є —Г –Ї–Њ—Б—В—А–∞.
29. –Ъ–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Љ–љ–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –Я—А–Њ—В–µ—П, –§–µ–∞–≥–µ–љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ –°–Є–≤–Є–ї–ї–∞ –і–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –і–∞–ґ–µ —Б—В–Є—Е–Є –Њ—А–∞–Ї—Г–ї–∞!
–Т –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–ґ–і—М, –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ—Л–є –Я—А–Њ—В–µ–є –≤–µ–ї–µ–Љ—Г–і—А—Л–є,
–ѓ—А—Л–є —А–∞–Ј–ґ–µ–≥—И–Є –Њ–≥–Њ–љ—М –≤ –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤–µ—А–ґ—Ж–∞ –Ч–µ–≤–µ—Б–∞ –Њ–≥—А–∞–і–µ,
–Я—А—П–љ–µ—В –≤ –љ–µ–≥–Њ –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Є –Ю–ї–Є–Љ–њ–∞,вАФ
–Т –і–µ–љ—М —Н—В–Њ—В –≤—Б–µ–Љ –≤–∞–Љ –≤–µ–ї—О, —З—В–Њ –њ–ї–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–Є—В–∞–µ—В–µ—Б—М –љ–Є–≤—Л,
–І–µ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–Њ—З–Є –≥–µ—А–Њ—О:
–Ю–љ –≤–µ–і—М –±–Њ–≥–∞–Љ —Б–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї вАФ –У–µ—А–∞–Ї–ї—Г –Є —Б–Є–ї–µ –У–µ—Д–µ—Б—В–∞.
–§–µ–∞–≥–µ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–ї—Л—И–∞–ї —Н—В–Њ –Њ—В –°–Є–≤–Є–ї–ї—Л.
30. –ѓ –ґ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ—О –µ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є—Б—П —Б—О–і–∞ –Њ—А–∞–Ї—Г–ї –С–∞–Ї–Є–і–∞[24], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–∞—З–љ–Њ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—П –Ї —Б–Є–≤–Є–ї–ї–Є–љ–Њ–Љ—Г, —В–∞–Ї –≤–µ—Й–∞–µ—В:
–Т –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А—П–љ–µ—В –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –≤–Њ–ґ–і—М –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л—Е,
–Т –љ–µ–і—А–∞ —Г–±–Њ–≥–Њ–є –і—Г—И–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–Є—П –ґ–∞–ї–Њ–Љ,
–Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є–љ—Л–Љ –ї–Є—Б–Њ-–њ—Б–∞–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є,
–£—З–∞—Б—В—М –Є–Ј–і–Њ—Е—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Ї–∞ —Б–µ–±–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В—М –≤ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ—М–µ.
–Х—Б–ї–Є –ґ –Є–Ј —В—А—Г—Б–Њ—Б—В–Є –Ї—В–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—Б—П –Њ—В —Б–Є–ї—Л –У–µ—Д–µ—Б—В–∞,
–Ґ–Њ—В—З–∞—Б –∞—Е–µ–є—Ж–∞–Љ –≤–µ–ї—О —П –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є –њ–Њ–±–Є—В—М –љ–µ–≥–Њ–і—П—П,
–Ф–∞–±—Л –љ–µ —Б–Љ–µ–ї –Њ–љ, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є, –≥–Њ—А—П—З–µ–є —Г—Б–µ—А–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —А–µ—З—М—О,
–Ч–ї–∞—В–Њ–Љ —Б—Г–Љ—Г –љ–∞–±–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О, —А–Њ—Б—В–Њ–≤—Й–Є–Ї –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л–є,
–Т –Я–∞—В—А–∞—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е —Б–µ–±–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–Є –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤.
–Ъ–∞–Ї –≤–∞–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞? –†–∞–Ј–≤–µ –С–∞–Ї–Є–і –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М —Е—Г–ґ–µ –°–Є–≤–Є–ї–ї—Л? –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А–∞ –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–µ–є—И–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ –Я—А–Њ—В–µ—П –≤—Л—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П –≤ ¬Ђ–≤–Њ–Ј–і—Г—Е¬ї вАФ —В–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ—Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї.
31. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Є –≤—Б–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є: ¬Ђ–Я—Г—Б—В—М –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–±—П —Б–Њ–ґ–≥—Г—В; –Њ–љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—П¬ї. –Ю—А–∞—В–Њ—А —Б–Њ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П, –љ–Њ ¬Ђ–Њ—В –Э–µ—Б—В–Њ—А–∞ —И—Г–Љ –љ–µ —Б–Њ–Ї—А—Л–ї—Б—П¬ї (–Ш–ї–Є–∞–і–∞. XIV, 1), —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ—В –§–µ–∞–≥–µ–љ–∞. –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Ї—А–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ, —Б—В–∞–ї –Ї—А–Є—З–∞—В—М –Є —Б—Г–ї–Є—В—М –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–Њ–ї –Њ—А–∞—В–Њ—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П —Б —В—А–Є–±—Г–љ—Л; —П –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О –Є–Љ–µ–љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –Ј–љ–∞—О –µ–≥–Њ. –ѓ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –§–µ–∞–≥–µ–љ–∞ –љ–∞–і—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Ї—А–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ—И–µ–ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –∞—В–ї–µ—В–Њ–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≥–µ–ї–ї–∞–љ–Њ–і–Є–Ї–Є[25] —Г–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±–Њ—А—М–±—Л. –Т–Њ—В –≤—Б–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ –≠–ї–Є–і–µ.
32. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є—О, –њ–Њ—А—В–Є–Ї[26] –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Њ–љ –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ–Њ—А–Є—Ж–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Я—А–Њ—В–µ—П –Є–ї–Є –ґ–µ —Е–≤–∞–ї—П—Й–Є–Љ–Є –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ. –£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–Є—Е –і–µ–ї–Њ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–Є—И–µ–ї –Є —Б–∞–Љ –Я—А–Њ—В–µ–є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ—Б–Љ–µ—В–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ—Л. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –≥–ї–∞—И–∞—В–∞—П–Љ–Є, –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –Њ —Б–µ–±–µ —А–µ—З—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є —З—В–Њ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б —А–∞–і–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —П –Љ–∞–ї–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е. –Ч–∞—В–µ–Љ, –Є—Б–њ—Г–≥–∞–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–і–∞–≤–Є—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–ї–њ–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, —П —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –Є—Й—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–Њ—Д–Є—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–ї —Б–µ–±–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ—Г—О —А–µ—З—М.
33. –Т—Б–µ –ґ–µ —П –Љ–Њ–≥ —А–∞—Б—Б–ї—Л—И–∞—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –≤–µ–љ—Ж–Њ–Љ; —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –ґ–Є–ї –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –У–µ—А–∞–Ї–ї, –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б —Н—Д–Є—А–Њ–Љ. ¬Ђ–ѓ —Е–Њ—З—Г, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ–љ, вАФ –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї—О–і—П–Љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї–Њ –Љ–љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –§–Є–ї–Њ–Ї—В–µ—В–∞–Љ–Є¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≤–∞—В—Л–µ –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л —Б—В–∞–ї–Є –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –Є –Ї—А–Є—З–∞—В—М: ¬Ђ–Я–Њ–±–µ—А–µ–≥–Є —Б–µ–±—П –і–ї—П —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤¬ї, –∞ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: ¬Ђ–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Љ—Г—В–Є–ї–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ —Г—Е–≤–∞—В—П—В—Б—П –Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В—П—В –і–Њ –Ї–Њ—Б—В—А–∞, –∞ –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤—П—В –ґ–Є—В—М. –Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—О –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Є —Н—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ—В—М, —Е–Њ—В—П –Њ–љ –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –Љ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–±–ї–µ–і–µ–љ, –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –≤ –і—А–Њ–ґ—М, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б–≤–Њ—О —А–µ—З—М.
34. –Ь–Њ–ґ–µ—И—М —Б–µ–±–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —П —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї, вАФ –≤–µ–і—М –љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О –Ї —Б–ї–∞–≤–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ—Л —В–µ–Љ –ґ–µ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–∞–Љ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –Я—А–Њ—В–µ—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –Є –Њ–љ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є, –±—А–Њ—Б–∞—П –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Ј–љ–∞—П, –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є, —З—В–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –ї—О–і–µ–є —В–Њ–ї–њ—П—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ј—Г—В —А–∞—Б–њ—П—В—М –Є–ї–Є –Ї—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ —А—Г–Ї–Є –њ–∞–ї–∞—З–∞.
35. –Э–Њ –≤–Њ—В –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є–≥—А—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М, —Б–∞–Љ—Л–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П –≤–Є–і–µ–ї; –∞ –≤–Є–і–µ–ї —П –Є—Е –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є —Г–ґ–µ —А–∞–Ј. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞–Љ –Є –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В—М –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї—Г, —П –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –љ–Њ—З—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є –≤–Ј—П–ї –Љ–µ–љ—П —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –Є —П, –≤—Б—В–∞–≤ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Р—А–њ–Є–љ—Г, –≥–і–µ –±—Л–ї —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ –Ї–Њ—Б—В–µ—А. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ-–љ–∞–≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В–∞–і–Є–є[27], –µ—Б–ї–Є –Є–і—В–Є –≤ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–Є –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Є–њ–њ–Њ–і—А–Њ–Љ–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є, –Љ—Л —Г–ґ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –≤ —П–Љ–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ—О —В–∞–Ї –≤ —Б–∞–ґ–µ–љ—М. –С—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–≤, –Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≤–∞–ї–µ–љ—Л —Е–≤–Њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –Љ–Њ–≥ —А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ—В—М—Б—П.
36. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј–Њ—И–ї–∞ –ї—Г–љ–∞ вАФ –Є –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞—В—М —Н—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ, вАФ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ, –Њ–і–µ—В—Л–є –њ–Њ-–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–≤–∞—А–Є –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–µ–є—И–Є–є –Ї–Є–љ–Є–Ї –Є–Ј –Я–∞—В—А —Б —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–Љ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –∞–Ї—В–µ—А. –Э–µ—Б —Д–∞–Ї–µ–ї –Є –Я—А–Њ—В–µ–є. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї —Б —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є –њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–ї –Ї–Њ—Б—В–µ—А. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–≤ –Є —Е–≤–Њ—А–Њ—Б—В–∞. –У–µ—А–Њ–є –ґ–µ вАФ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–љ–µ—Б–Є—Б—М —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї –Љ–Њ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ вАФ —Б–љ—П–ї —Б—Г–Љ–Ї—Г –Є —А—Г–±–Є—Й–µ, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –У–µ—А–∞–Ї–ї–Њ–≤—Г –њ–∞–ї–Є—Ж—Г –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—З–µ–љ—М –≥—А—П–Ј–љ–Њ–є –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –ї–∞–і–∞–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–∞–ї –њ—А–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ, –Я—А–Њ—В–µ–є –±—А–Њ—Б–Є–ї –ї–∞–і–∞–љ –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —О–≥ (–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —О–≥ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —З–∞—Б—В—М—О –µ–≥–Њ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є): ¬Ђ–Ф—Г—Е–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –Њ—В—Ж–∞, –њ—А–Є–Љ–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ¬ї. –° —Н—В–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М. –Т–Є–і–µ—В—М –µ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–µ–µ—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ–ї–∞–Љ—П –µ–≥–Њ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ.
37. –Т–љ–Њ–≤—М –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї —В—Л —Б–Љ–µ–µ—И—М—Б—П, –і–Њ–±—А–µ–є—И–Є–є –Ъ—А–Њ–љ–Є–є, –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–Є –і—А–∞–Љ—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –і—Г—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є, —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤, –љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Ї –і—Г—Е—Г –Њ—В—Ж–∞, —П –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–Љ–µ—Е–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ–± —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ –Њ—В—Ж–∞. –Ю–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є —Б–ї–µ–Ј –љ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є, –љ–Њ, —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥–Њ–љ—М, –Љ–Њ–ї—З–∞ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–µ—З–∞–ї—М. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ, –Є —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Я–Њ–є–і–µ–Љ—В–µ –њ—А–Њ—З—М, —З—Г–і–∞–Ї–Є, –≤–µ–і—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–ґ–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞—И–Ї–∞, –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ—О—Е–∞—В—М —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Е. –Ш–ї–Є –≤—Л, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –ґ–і–µ—В–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є —Б—А–Є—Б—Г–µ—В –≤–∞—Б —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ –≤ —В—О—А—М–Љ–µ?¬ї –Ъ–Є–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б—Б–µ—А–і–Є–ї–Є—Б—М –Є —Б—В–∞–ї–Є —А—Г–≥–∞—В—М –Љ–µ–љ—П, –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ґ–µ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ–∞–ї–Ї–Є. –Э–Њ —П –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї, —З—В–Њ, —Б—Е–≤–∞—В–Є–≤ –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –±—А–Њ—И—Г –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Є –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є —А—Г–≥–∞—В—М—Б—П –Є —Б—В–∞–ї–Є –≤–µ—Б—В–Є —Б–µ–±—П —В–Є—Е–Њ.
38. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П, —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є —В–Њ–ї–њ–Є–ї–Є—Б—М —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ. –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї, –≤ —З–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–∞–≤–Њ–ї—О–±–Є—П –Є –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П, —В–∞–Ї —З—В–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —А–∞–љ—М—И–µ –ґ–Є–ї –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –≥–ї—Г–њ–Њ –Є –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —А–∞–Ј—Г–Љ—Г, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—П —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ.
39. –Ч–∞—В–µ–Љ –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –Є–і—Г—Й–Є–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ. –Ю–љ–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–љ—Г—В –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞ –µ—Й–µ –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –±—Л–ї –њ—Г—Й–µ–љ —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Ј–Њ–є–і–µ—В –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ј–љ–∞—О—Й–Є—Е, –і–µ–ї–∞—О—В –±—А–∞—Е–Љ–∞–љ—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л—Е —П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ —Г–ґ–µ —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ, –љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –љ–∞–є—В–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ, –Љ–Є–ї—Л–є –і—А—Г–≥, —Г –Љ–µ–љ—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і–µ–ї: —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –∞ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є, —П –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї –≥–Њ–ї—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Є —В–µ–±–µ —В–µ–њ–µ—А—М; –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—П –ґ–µ –ї—О–і—П–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Є —Б–ї—Г—И–∞—О—Й–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–µ—Б—П —Г—И–Є, —П –њ—А–Є—Б–Њ—З–Є–љ—П–ї –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –Њ—В —Б–µ–±—П; —П —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Б—П –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Є —В—Г–і–∞ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Я—А–Њ—В–µ–є, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ –≥—Г–ї–Њ–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ –Є–Ј —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –≤–Ј–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ—А—И—Г–љ –Є, –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б—М–µ, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б —Б–ї–Њ–≤–∞:
–Я–Њ–Ї–Є–і–∞—О —О–і–Њ–ї—М, –≤–Њ–Ј–љ–Њ—И—Г—Б—М –љ–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ!
–°–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–Є –Є–Ј—Г–Љ–ї—П–ї–Є—Б—М –Є –≤ —Б—В—А–∞—Е–µ –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ—Г –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П, –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї –Ї–Њ—А—И—Г–љ. –ѓ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Є–Љ —З—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞ —Г–Љ.
40. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, —П –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–і–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–љ—Г—И–∞–ї –Ї —Б–µ–±–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є –Є –Њ—Б–∞–љ–Ї–Њ–є. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б –Я—А–Њ—В–µ–µ–Љ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ –Њ–і–µ—П–љ–Є–Є –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ —А–∞—Б—Е–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –≤ ¬Ђ–°–µ–Љ–Є–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–Є–Ї–µ¬ї —Б –Љ–∞—Б–ї–Є—З–љ—Л–Љ –≤–µ–љ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї –µ—Й–µ –Њ –Ї–Њ—А—И—Г–љ–µ, –Ї–ї—П—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ—А—П—П, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–∞–Љ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —В–Њ—В –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В—А–∞, —Е–Њ—В—П —П —Б–∞–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і –њ—Г—Б—В–Є–ї –ї–µ—В–∞—В—М —Н—В—Г –њ—В–Є—Ж—Г –≤ –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї—Г –љ–∞–і –ї—О–і—М–Љ–Є –≥–ї—Г–њ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ–Є.
41. –Ґ—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –≤–Њ —З—В–Њ —Н—В–Њ —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—З–µ–ї—Л –љ–µ —Б—П–і—Г—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Є –љ–µ –±—Г–і—Г—В —Б—В—А–µ–Ї–Њ—В–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ —Б–ї–µ—В—П—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –У–µ—Б–Є–Њ–і–∞, –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Р —П —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —Н–ї–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Н–ї–ї–Є–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –њ–Є—Б–∞–ї. –Ъ–∞–Ї —Г–≤–µ—А—П—О—В, –Я—А–Њ—В–µ–є —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б –Ј–∞–≤–µ—В–∞–Љ–Є, —Г–≤–µ—Й–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ф–ї—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –Є—Е –Њ–љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤ –Є—Е ¬Ђ–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е¬ї –Є ¬Ђ–±–µ–≥—Г–љ–∞–Љ–Є –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–і–љ–µ–є¬ї.
42. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ—В–µ—П, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Є—Б—В–Є–љ—Г, –љ–Њ –≤—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є –і–µ–ї–∞–ї, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Б—М —Б–ї–∞–≤–Њ–є –Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ–Є —В–Њ–ї–њ—Л, –Є –і–∞–ґ–µ —А–∞–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –Ї –љ–Є–Љ –љ–µ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ.
43. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —П –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—О –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, —З—В–Њ–±—Л —В—Л –Љ–Њ–≥ –Њ—В –і—Г—И–Є –њ–Њ—Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П. –Ю–і–љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В—Л —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–љ–∞–µ—И—М: –≤–µ–і—М, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –°–Є—А–Є–Є, —П —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —В–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї —П –њ–ї—Л–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–Њ–Љ –Њ—В –Ґ—А–Њ–∞–і—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–љ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О, –≤–µ–Ј —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —О–љ–Њ—И—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Г–±–µ–і–Є–ї –±—Л—В—М –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ —А–Њ–ї–Є –Р–ї–Ї–Є–≤–Є–∞–і–∞[28]; –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Њ—З—М—О –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –≠–≥–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П —В—Г–Љ–∞–љ –Є —Б—В–∞–ї–Є –≤–Ј–і—Л–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л, –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, –Њ–љ вАФ —Н—В–Њ—В —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О!
44. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —В–∞–Ї –і–љ–µ–є –Ј–∞ –і–µ–≤—П—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Я—А–Њ—В–µ–є, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —Б—К–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞–і–Њ. –Э–Њ—З—М—О –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —А–≤–Њ—В–∞ –Є —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–∞. –≠—В–Њ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤—А–∞—З –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –µ–≥–Њ. –Ч–∞—Б—В–∞–ї –Њ–љ –Я—А–Њ—В–µ—П –Љ–µ—З—Г—Й–Є–Љ—Б—П –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г. –Э–µ –Є–Љ–µ—П —Б–Є–ї –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –ґ–∞—А, –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –і–∞—В—М –µ–Љ—Г —З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —В–Њ—В –љ–µ –і–∞–ї –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —В–Њ –≤–Њ—В –Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –µ–≥–Њ –і–≤–µ—А—П–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –љ–µ–є, –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—П –Ї –Њ–≥–љ—О. –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–µ –±—Л–ї –±—Л —Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ–љ¬ї.
45. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і —П —Б–∞–Љ –≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞–Љ–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–і–Ї–Є–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–Ј—Л —Г –љ–µ–≥–Њ —В–µ–Ї–ї–Є. –Т–Є–і–Є—И—М –ї–Є? –≠–∞–Ї[29] –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –ї–Є—Ж —Б–Њ —Б–ї–∞–±—Л–Љ –Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–≤–Њ–Ј–і—П—В –Ї–Њ –Ї—А–µ—Б—В—Г, —Б—В–∞–ї –ї–µ—З–Є—В—М –Ј–∞—И–Є–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–∞–ї–µ—Ж. –Ъ–∞–Ї —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї –±—Л –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї? –Ю–љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г —Б—В–∞–ї –±—Л —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞–і —Н—В–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М –±—Л —Г –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В–∞ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Љ–µ—Е–∞? –Ш—В–∞–Ї, —Б–Љ–µ–є—Б—П –Є —В—Л, –Љ–Є–ї–µ–є—И–Є–є, –∞ –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞—О—В—Б—П –Я–µ—А–µ–≥—А–Є–љ–Њ–Љ.
[1] –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ (adv. indoct. 14) –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–Є —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –Я—А–Њ—В–µ—П.
[2] –Я—А–Њ—В–µ–є вАФ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–µ вАФ
¬Ђ... –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—А–µ—Ж,
–†–∞–≤–љ—Л–є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ –Я—А–Њ—В–µ–є, –µ–≥–Є–њ—В—П–љ–Є–љ, –Є–Ј–≤–µ–і–∞–≤—И–Є–є –Љ–Њ—А—П
–Т—Б–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Є —Ж–∞—А—П –Я–Њ—Б–µ–є–і–Њ–љ–∞ –і–µ—А–ґ–∞–≤–µ –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–є...
–†–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –љ–∞—З–љ–µ—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤–∞–Љ —Б—В–∞–љ–µ—В
–Т—Б–µ–Љ —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Ј–µ—В –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Є –≤–Њ–і–Њ—О, –Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –ґ–≥—Г—З–Є–Љ¬ї.
(–Ю–і–Є—Б—Б–µ—П, IV, 384вАУ386, 417вАУ418).
[3] –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –≠–Љ–њ–µ–і–Њ–Ї–ї (–Њ–Ї. 494вАУ434 –≥–≥. –і–Њ –љ. —Н.), –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –њ–Њ–≥–Є–±, –±—А–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ї—А–∞—В–µ—А –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–∞ –≠—В–љ—Л.
[4] –Ґ. –µ. –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є (Kynes –њ–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є ¬Ђ—Б–Њ–±–∞–Ї–Є¬ї).
[5] –Р–Ї—В–µ–Њ–љ вАФ –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Є–љ—П –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞ –≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –µ–µ –Ї—Г–њ–∞—О—Й–µ–є—Б—П, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤ –Њ–ї–µ–љ—П, –Є –µ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є. –Я–µ–љ—Д–µ–є, –±—Л–≤—И–Є–є, –Ї–∞–Ї –Є –Р–Ї—В–µ–Њ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –Ъ–∞–і–Љ–∞, –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є–ї –±–Њ–≥–∞ –Т–∞–Ї—Е–∞ –Є –±—Л–ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–∞—В—М –Я–µ–љ—Д–µ—П, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞ –Ј–≤–µ—А—П –Є —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–ї–Є –µ–≥–Њ.
[6] –У–Њ—А–Њ–і –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Я–µ–ї–Њ–њ–Њ–љ–љ–µ—Б–µ, –≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є.
[7] –Ґ–∞–ї–∞–љ—В вАФ –Љ–µ—А–∞ –≤–µ—Б–∞: 20 470 –≥; –Ї–∞–Ї –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П –µ–і–Є–љ–Є—Ж–∞ 1 —В–∞–ї–∞–љ—В (—Б–µ—А–µ–±—А–∞) = 60 –Љ–Є–љ = 6000 –і—А–∞—Е–Љ (–њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 2000вАУ2500 —А—Г–±.).
[8] –Ф–Є–Њ–≥–µ–љ вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д-–Ї–Є–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–≤–Њ–µ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ–і–∞–ї –њ–Њ–≤–Њ–і –Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В–∞–Љ –Њ –љ–µ–Љ. –Х–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –±—Л–ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д IV –≤. –і–Њ –љ. —Н., —Г—З–µ–љ–Є–Ї –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ –Р–љ—В–Є—Б—Д–µ–љ.
[9] –У–µ—А–∞–Ї–ї–Є—В (–Њ–Ї. 544вАУ475 –≥–≥. –і–Њ –љ. —Н.) вАФ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–Є. –Т –µ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П–Љ–Є, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –±–Њ—А—М–±–µ. –Т –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–ї—Л–ї –Љ–µ–ї–∞–љ—Е–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–≤—Б–µ –Њ–њ–ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї, –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—П –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –≤—Б–µ—Е –ї—О–і–µ–є¬ї (–Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В, Philosoph., 4, 1). –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, ¬Ђ–љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, —Б—З–Є—В–∞—П –≤—Б–µ —Г –ї—О–і–µ–є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ —Б–Љ–µ—Е–∞¬ї. (–°—А. –°–µ–љ–µ–Ї–∞, de ira II, 10, 5: ¬Ђ–У–µ—А–∞–Ї–ї–Є—В –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї, –њ–ї–∞–Ї–∞–ї, –≤—Б–µ—Е –ґ–∞–ї–µ–ї... –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–Є—В, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –±–µ–Ј —Б–Љ–µ—Е–∞¬ї).
[10] –Я–Њ–ї–Є–Ї–ї–µ—В вАФ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А V –≤. –і–Њ –љ. —Н., –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–є –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є. –Ю–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —В—А–∞–Ї—В–∞—В ¬Ђ–Ъ–∞–љ–Њ–љ¬ї, –≥–і–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї —В–µ–Њ—А–Є—О –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞.
[11] –°–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–∞; –Љ—Л –µ–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –У–µ—Б—Б–љ–µ—А–∞, –С–µ–Ї–Ї–µ—А–∞, –Ъ–Њ–±–µ—В–∞, –§—А–Є—Ж—И–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В —Б–Љ. —Г –Ъ–µ–є–Љ–∞: CelsusвАЩ Wahres Wort. S. 147вАУ148.
[12] –°–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–≤—Б–µ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ¬ї –≤—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ.
[13] –Ъ—А–∞—В–µ—В, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д-–Ї–Є–љ–Є–Ї, —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф–Є–Њ–≥–µ–љ–∞, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, —А–Њ–Ј–і–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
[14] –Я–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є ¬Ђadiaphora¬ї вАФ —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Є–љ–Є–Ї–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є —Б—Г–µ—В–љ–Њ–µ, –Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ.
[15] –Ь—Г–Ј–Њ–љ–Є–Є –†—Г—Д вАФ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д-—Б—В–Њ–Є–Ї, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є –Ї –Ї–Є–љ–Є–Ї–∞–Љ, –≤ 65 –≥. –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ –Э–µ—А–Њ–љ–Њ–Љ –Є–Ј –†–Є–Љ–∞. –Ф–Є–Њ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В, –Њ—А–∞—В–Њ—А –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д-–Ї–Є–љ–Є–Ї, –≤ 87 –≥. –±—Л–ї –Є–Ј–≥–љ–∞–љ –Є–Ј –†–Є–Љ–∞ –Є –Ш—В–∞–ї–Є–Є –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–љ—Г—О –ї–Є—И–µ–љ–Є–є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Ї–Є—В–∞–ї—М—Ж–∞. –†–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—П–Љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –≠–њ–Є–Ї—В–µ—В, –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј –†–Є–Љ–∞ –≤ 89 –≥.
[16] –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г —Б–Њ—Д–Є—Б—В –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –У–µ—А–Њ–і –Р—В—В–Є–Ї (101вАУ177 –≥–≥.).
[17] –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–Є —А–∞–Ј –≤ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ–±—Й–µ—Н–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є–≥—А—Л (¬Ђ–Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і—Л¬ї), –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≥—А–µ–Ї–Є –≤–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ.
[18] –У–µ—А–∞–Ї–ї —Б–ґ–µ–≥ —Б–µ–±—П –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –≠—В—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –і—А—Г–≥ –§–Є–ї–Њ–Ї—В–µ—В –њ–Њ–і–љ–µ—Б —Д–∞–Ї–µ–ї –Ї –Ї–Њ—Б—В—А—Г.
[19] –§–∞–ї–∞—А–Є–і вАФ —В–Є—А–∞–љ –Р–≥—А–Є–≥–µ–љ—В–∞ –≤ –°–Є—Ж–Є–ї–Є–Є (VI –≤. –і–Њ –љ. —Н.), –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М—О; –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–ї—Л–є –Љ–µ–і–љ—Л–є –±—Л–Ї, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є—Е –Ј–∞–ґ–∞—А–Є–≤–∞–ї.
[20] –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Є–є –У–µ—А–Њ—Б—В—А–∞—В, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П, —Б–ґ–µ–≥ —Е—А–∞–Љ –Р—А—В–µ–Љ–Є–і—Л, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–µ–Љ–Є —З—Г–і–µ—Б —Б–≤–µ—В–∞.
[21] –Т—Б–µ —Н—В–Њ вАФ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –Ї–Є–љ–Є–Ї–Њ–≤.
[22] –°–Њ—Д–Њ–Ї–ї. –Ґ—А–∞—Е–Є–љ—П–љ–Ї–Є // –°–Њ—Д–Њ–Ї–ї. –Ф—А–∞–Љ—Л, –Ь., 1914. –Ґ. 3. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Д—Г, –ґ–µ–љ–∞ –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞ –і–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –њ–ї–∞—В—М–µ, –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤—М—О —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ –Ї–µ–љ—В–∞–≤—А–∞ –Э–µ—Б—Б–∞; –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Н—В–Є–Љ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞ —Б–ґ–µ—З—М —Б–µ–±—П.
[23] –Ю–љ–µ—Б–Є–Ї—А–Є—В, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞, –≥–і–µ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—Б–Ї–µ—В–∞–Љ–Є.
[24] C—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М, –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –Р—Д–Є–љ–∞—Е –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ—А–∞–Ї—Г–ї–Њ–≤.
[25] –°—Г–і—М–Є –љ–∞ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П—Е.
[26] –Ъ—А—Л—В–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –Ч–µ–≤—Б–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ.
[27] –°—В–∞–і–Є—П, —Б—В–∞–і–Є–є вАФ –Љ–µ—А–∞ –і–ї–Є–љ—Л: 177,6 –Љ–µ—В—А–Њ–≤.
[28] –Т –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –°–Њ–Ї—А–∞—В –±—Л–ї –≤ –Є–љ—В–Є–Љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —О–љ–Њ—И–µ–є –Р–ї–Ї–Є–≤–Є–∞–і–Њ–Љ, –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ.
[29] –≠–∞–Ї вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б—Г–і–µ–є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞.