
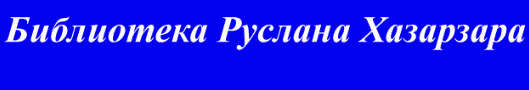

|
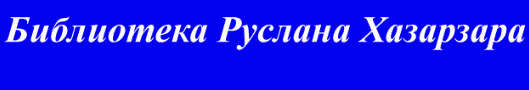
|
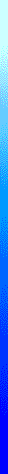
|
М. Мерло-ПонтиПространствоАнализ как идеально отличительный момент знания не может служить основанием какого-либо содержания. Само содержание как результат акта рефлексии уже имеет отношение к миру. Рефлексия не движется в обратном направлении по пути, уже проложенному конституирующим актом. И естественная, в данном случае, ссылка на вещественность мира ведет нас к новой концепции интенциональности. Новый подход необходим, поскольку классическая концепция интенциональности[1], рассматривающая опыт мира с точки зрения чистого конституирующего акта сознания, Может сослаться на вещественность мира только в той мере, в какой она определяет сознание как абсолютное небытие и, соответственно, передает свое содержание “гилетическому слою”, принадлежащему непрозрачности бытия. Для того чтобы приблизиться к этой новой интенциональности наиболее непосредственным образом, мы должны рассмотреть понятие формы восприятия и, в особенности, понятие пространства. И. Кант попытался провести демаркационную линию между пространством, как формой внешнего опыта, и вещами, как внутренним содержанием этого опыта. Естественно, что не существует особой проблемы соотношения того, что вмещает, и его содержимого, поскольку это отношение осуществляется только между объектами. Нельзя даже говорить об отношении логического включения, подобного отношению между индивидом и классом, поскольку пространство предшествует своим предполагаемым частям, которые всегда извлечены из него. Пространство — это не Место (реальное или логическое), в котором расположены вещи; оно характеризует только возможную последовательность их расположения. Это означает, что мы должны мыслить о пространстве как об универсальной силе, определяющей возможность соединения вещей, а не представлять его как их вместилище или как абстрактную характеристику, которой вещи обладают в своей совокупности. Следовательно, либо я пребываю среди вещей, не рефлексируя, и отношусь к пространству как к месту, в котором они расположены, или как к их общему свойству; либо я рефлексирую, схватывая пространство в его источнике, и только в этот момент осознаю связи, выраженные в данном слове, представляя затем, что они опосредованы субъектом, который отслеживает и подтверждает их, и, в результате этого, перехожу от опространствленного пространства к пространствующему пространству. В первом случае мое тело и вещи, их конкретная связь, выраженная такими терминами, как верх и низ, правое и левое, близкое и далекое, могут быть представлены мной как нередуцируемое многообразие; тогда как во втором случае я открываю единственную и неделимую способность описывать пространство. В первом случае я заинтересован в физическом пространстве с его разнообразно специализированными областями; во втором случае — в геометрическом пространстве, имеющем взаимозаменимые размеры, однородные и изотропные. Последнее обстоятельство дает возможность, по крайней мере, мыслить чистое изменение места, которое движущееся тело должно оставлять неизменным, и, следовательно, мыслить о чистой позиции, отличающейся от ситуации объекта в его конкретном контексте. Отчетливо осознавая, каким образом это различие затемняется в современных концепциях пространства, даже на уровне научного знания, мы стремимся противостоять создавшейся ситуации не с помощью технических средств, имеющихся в арсенале современной физики, а — с помощью нашего собственного опыта пространства, который, согласно Канту, является окончательным апелляционным судом всякому знанию, связанному с пространством. Здесь мы действительно сталкиваемся с альтернативой: либо вещи воспринимаются в пространстве, либо (если мы рефлексируем и пытаемся открыть значение нашего собственного опыта) пространство мыслится как неделимая система, управляющая синтетическими актами, которые выполняются конституирующим умом. Однако разве опыт не дает основу для единства пространства за счет совершенно иного типа синтеза? Попробуем рассмотреть опыт пространства до какой-либо его теоретической разработки. Возьмем, например, наш опыт “верха” и “низа”. Поскольку мы не можем зафиксировать его в обычном течении жизни, то должны исследовать некоторый исключительный случай, при котором он может быть разложен на элементы и преобразован непосредственно на наших глазах, как в случаях видения с отсутствующей глазной инверсией. Когда участник эксперимента надевает очки, корректирующие зрительные образы, окружающий его мир первоначально представляется нереальным и перевернутым вверх тормашками. На второй день эксперимента начинает восстанавливаться нормальное восприятие, однако человек продолжает чувствовать свое тело перевернутым[2]. В течение второй серии экспериментов[3], длящихся неделю, объекты, оставаясь перевернутыми, кажутся более реальными, чем в первой серии. На второй день недели ощущение, что тело находится в нормальном положении, еще отсутствует, хотя окружающий мир уже более на кажется перевернутым. С третьего по седьмой день тело начинает постепенно выравниваться, и участнику эксперимента кажется, в особенности когда он проявляет активность, что оно, наконец, занимает свое нормальное положение. Но когда он лежит без движения на кушетке, тело все еще представляется ему на фоне прежнего пространства, а правое и левое сохраняют свое былое значение в отношении тех частей тела, которые задействованы, но непосредственно им не наблюдаются. Внешние объекты постепенно приобретают “реальный” вид. На пятый день действия, которые первоначально были нарушены новой зрительной перспективой и требовали коррекции с позиции общего визуального смешения, теперь безошибочно осуществляют свою функцию. Новые визуальные данные, первоначально выступающие на фоне прежнего пространства, переворачиваются, вначале (третий день) только с помощью значительных усилий воли, а затем (седьмой день) вообще без всякого волевого усилия, причем в горизонте, который соответствует их общей ориентации. На седьмой день место, откуда исходит звук, правильно соотносится с местом звучащего объекта. Однако представление остается ненадежным, раздвоенным и даже неточным, если источник звука не проявляется в визуальном поле. На последней стадии эксперимента, когда очки удалены, объекты, не являясь перевернутыми, все же кажутся “странными”, а моторные реакции действуют в обратном направлении: участник эксперимента вытягивает свою правую руку вместо левой. Психолог первоначально предполагает[4], что после того, как очки снова будут надеты, визуальное поле предстанет участнику эксперимента снова таким, как если бы его перевернули на сто восемьдесят градусов, то есть вверх тормашками. Эта ситуация напоминает другую: иллюстрации в книге кажутся перевернутыми, если в тот момент, когда мы на мгновение оглянулись, кто-то в шутку поменял “верх” и “низ”. Совокупность ощущений, возникающих при наблюдении иллюстрации, сходна с ощущениями, связанными с изменением верха и низа. Но совокупность ощущений, связанных с осязанием мира, остается между тем “правильной”. Ощущения не могут более соответствовать видимому миру, ибо, в этом случае, субъект имел бы два противоречивых представления своего тела, одно — данное ему его тактильными ощущениями и теми “визуальными образами”, которые он сохранил со времени, предшествующего эксперименту, а другое — его видение в данный момент, показывающее ему его тело “вверх тормашками”. Подобный конфликт образов может закончиться только тогда, когда один из них будет устранен. Чтобы проследить, как восстанавливается нормальная ситуация, необходимо уяснить то, каким способом новый образ мира и собственное тело могут “сместить”[5] другой образ или заставить его “померкнуть”[6]. Уже отмечалось, что восстановление нормальной ситуации прямо пропорционально активности участника, например, когда он моет руки на второй день эксперимента[7]. В этом случае обнаруживается, что опыт движения, направляемый взглядом, учит участвующего в эксперименте приводить тактильные и визуальные данные в гармоническое соответствие. Он осознает, например, что движение, требуемое для того, чтобы дотянуться до своих ног, которое ранее было направлено “вниз”, проявляется в новом визуальном образе как движение, которое ранее было направлено “вверх”. Наблюдения за этим визуальным образом дают возможность скорректировать неправильные жесты на ранних стадиях эксперимента посредством рассмотрения визуальных данных просто как знаков, которые необходимо декодировать и переводить на язык прежнего пространства. Как только визуальные данные становятся “привычными”[8], они устанавливают между старыми и новыми направлениями движения устойчивые “ассоциации”[9], в которых старые направления, будучи первыми, исчезают в пользу новых, господствующих в силу своего визуального происхождения. “Верх” визуального поля, где первоначально появляются ноги, отождествляется с тем, что на ощупь является “низом”. Но вскоре у участника эксперимента исчезает необходимость рассчитывать движения для того, чтобы перейти из одной системы в другую. Его ноги располагаются в том месте, которое он обычно называл “верхом” визуального поля. Он не только “видит”, но также и “чувствует” их там[10]. В конце концов, то, что ранее было “верхом” визуального поля, начинает производить впечатление, сходное с впечатлением “низа”, и наоборот[11]. Как только тактильные характеристики тела соотносятся с визуальными, область визуального поля, связанная с появлением ног, уже более не рассматривается как “верх”. Ее значение переносится в область, в которой появляется голова, а область, содержащая ноги, вновь становится “низом”. Однако подобная интерпретация не осознается. Перевертывание окружающего мира, с последующим возвращением к нормальному видению, основано на предположении о том, что “верх” и “низ” переворачиваются и меняются местами соответственно направлению головы и ног за счет того, что голова и ноги представлены в образе и, так сказать, отмечены в сенсорном поле с помощью реального распределения чувств. Но ориентация не может быть задана движениями головы и ног, присутствующих в поле, ни в начале опыта, когда мир “перевернут”, ни в конце его, когда мир “правильный”, ибо для того, чтобы привнести направление в поле, голова и ноги должны иметь его сами по себе. Однако “перевернутое” и “правильное” — сами по себе не имеют никакого значения. На самом деле ответ заключается в том, что после того, как надеты очки, визуальное поле переворачивается относительно тактильно-телесного поля или нормального визуального поля, которое мы, используя номинальное определение, называем “правильным”. Тем не менее, аналогичный вопрос возникает и в отношении полей, рассматриваемых нами в качестве стандарта. Их простого присутствия не хватает для обеспечения какого-либо направления. Для того чтобы установить направление, достаточно Среди вещей указать две точки. Находясь среди вещей, мы владеем только сенсорными полями, которые не сводятся к совокупностям данных нам ощущений, таких, как “голова вверху” или “голова внизу”. В течение эксперимента системы явлений по разному ориентированы даже там, где при группировании стимулов никакие изменения не происходят. Наиболее важно выяснить, что происходит тогда, когда свободно плавающие явления неожиданно бросают якорь и занимают определенную позицию относительно положения “верха” и “низа”, когда тактильно-телесное поле, в начале эксперимента, кажется “правильным”, а визуальное “перевернутым”, или когда первое переворачивается, в то время как второе осознается как “правильное”, или, наконец, когда, в заключение эксперимента, оба более или менее “уравниваются”. Нельзя допустить, что мир и ориентированное пространство даны вместе с содержанием чувственного опыта или вместе с самим телом, поскольку опыт фактически показывает, что то же самое содержание может быть успешно сориентировано в различных направлениях и что объективная взаимосвязь, запечатленная на сетчатке глаза, в соответствии с позицией физического образа, не управляет нашим опытом “верха” и “низа”. Мы хотим знать, каким образом объект может являться нам “правильным” или “перевернутым” и что эти слова обозначают? Этот вопрос относится к эмпирической психологии, которая рассматривает восприятие пространства как рецепцию реального пространства в нас самих, а феноменальную ориентацию объектов как отражение их ориентации в мире. В равной степени его можно задать интеллектуалистской психологии, для которой “правильное” и “перевернутое” суть взаимоотношения, зависимые от выбранных фиксированных точек. А поскольку выбранная ось координат расположена в пространстве только в отношении к другой оси, то задача определения мира откладывается бесконечно. “Верх” и “низ” теряют свое специфическое значение, которое могло бы быть за ними закреплено, если бы, стремясь не допустить противоречия, мы не признавали бы определенного содержания, способного занять позицию в пространстве, которое привносит эмпиризм с его проблемами. Легко показать, что направление может иметь место только для такого субъекта, который ему следует. Конституирующий ум способен зафиксировать все направления в пространстве, но без реальной отправной точки, без абсолютного “здесь”, которое способно постепенно подтвердить значения всех пространственных определений, он не может иметь какого-либо направления в данный момент, а следовательно, не может иметь и самого пространства. Интеллектуализм, так же как и эмпиризм, исторически находится вне проблемы ориентированного пространства, так как не в состоянии поставить соответствующий вопрос. Для эмпиризма вопрос об ориентированном пространстве может быть сформулирован следующим образом: каким способом образ мира, существующий в себе, может быть представлен мной правильным образом, если он перевернут? Интеллектуализм даже не может понять, что после того, как надеты очки, образ мира переворачивается. Конституирующий ум лишен оснований, позволяющих различить опыт до и после надевания очков, и не способен каким-либо образом отличать визуальный опыт “перевернутого” тела и тактильный опыт “правильного” тела до тех пор, пока он не получит откуда-нибудь связанные с ними данные и пока все объективные отношения между телом и окружающей его средой не закрепятся в новом облике. Итак, мы получаем возможность понять, в чем заключается эта проблема. Эмпиризм должен охотно принять актуальную ориентацию моего телесного опыта в качестве фиксированной точки, которая необходима, если мы желаем понять, что представляет для нас направление. Однако опыт и рефлексия показывают, что никакое содержание не может ориентироваться в себе. Интеллектуализм, для того чтобы объяснить актуальное восприятие пространства, не может стоять в стороне от отношения верха и низа и начинает с этого свое исследование. Поэтому мы не можем понять опыт пространства ни с точки зрения рассмотрения содержания, ни с точки зрения некой чистой синтезирующей активности. Мы сталкиваемся здесь с третьей пространственностью, на которую указывали ранее и которая не является пространственностью вещей в пространстве и пространственностью пространствующего пространства. Она не затронута кантовским анализом, который, тем не менее, неявно ее предполагает. Нам необходим абсолют в границах сферы отношений пространства, который не ускользает от явлений, а реально в них укоренен и от них зависит, но который не дается вместе с ними каким-либо реальным способом и может, как показывают эксперименты Стрэттона, пережить их полную дезорганизацию. Мы должны обнаружить первичный опыт пространства в непосредственной близости от различия между формой и содержанием. Рассмотрим следующую ситуацию. Если субъект смотрит на комнату, в которой он находится, в зеркало, отражающее ее под углом сорок пять градусов, то первоначально он видит ее “наискосок”. Человек во время ходьбы по комнате, отражаясь в зеркале, будет выглядеть как бы наклоненным в одну сторону. А траектория полета кусочка картона, падающего с дверного косяка, так же не будет вертикальной. Общий эффект будет “странным”. Через несколько минут ситуация неожиданно меняется: стены, человек, шагающий по комнате, и траектория падения картона становятся вертикальными[12]. Этот эксперимент, аналогичный эксперименту Стрэттона, имеет преимущество в том, что мгновенно перераспределяет направления “выше” и “ниже” без привлечения какого-либо моторного действия. Нам уже понятна бессмысленность утверждения о том, что наклонный образ привносит с собой переориентацию направлений “выше” и “ниже”, которые начинают идентифицироваться с помощью моторного исследования нового поля зрения. В данном случае видно, что подобное исследование даже не является необходимым, поскольку перераспределение осуществляется тотальным актом субъекта восприятия. Будем говорить, что восприятие, предшествующее эксперименту, признает определенный пространственный уровень, в отношении которого визуальное поле, актуализируемое в опыте, является первоначально косвенным, и, в течение эксперимента, восприятие порождает другой уровень, в отношении которого целостность визуального поля, а не совокупность его содержания вновь демонстрирует свою корректность. Как если бы некоторые объекты (стены, двери и тело человека в комнате), воспринятые наклонно по отношению к имеющемуся уровню, затем соизмеряются с ним для того, чтобы установить определяющие направления, которые, стягивая на себя вертикаль, действуют подобно “якорю”[13] и заставляют ранее установленную горизонталь отклоняться в сторону. В данном случае, мы застрахованы от ошибки реализма, использующего визуальное действие как источник направления в пространстве, поскольку действие, в течение эксперимента, разворачивается (косвенно) для нас только в отношении определенного уровня, а поэтому само по себе не дает новую ось “верх—низ”. Осталось показать, что здесь мы имеем дело с таким уровнем, который всегда опережает себя, так как в любой момент установления он предполагает другой предустановленный уровень как “якорь”, вырабатывающийся в пределах определенного пространства, из которого он извлекает свою стабильность, предлагая нам установление такого нового уровня, в котором “верх” и “низ”, если это не просто названия, применяемые к самой ориентации содержания чувственного опыта, приобретают свое подлинное значение. Мы придерживаемся того, что “пространственный уровень” не должен смешиваться с ориентацией чьего-либо тела. Однако в определенной степени сознание собственного тела, несомненно, способствует его установлению (например, субъект, когда наклоняет голову, держит палку наискосок, несмотря на то, что его просят держать ее вертикально)[14]. В этом смысле, по отношению к другим секторам опыта вертикаль стремится следовать за направлением головы только в том случае, если визуальное поле остается пустым и “якорь” отсутствует (например, при работе в темноте). Тело, как совокупность тактильных и моторных данных, не ориентировано в степени более определенной, чем другие содержания опыта, и получает свою ориентацию также из общего уровня опыта. Наблюдения Вертгеймера показывают то, каким образом визуальное поле может навязывать ориентацию, которая не является ориентацией тела. Несмотря на то, что тело, как мозаика данных ощущений, не имеет специфического направления, как посредник, оно играет существенную роль в установлении уровня. Вариации мускульного усилия, даже в полном визуальном поле, настолько модифицируют явную вертикаль, что субъект наклоняет голову в одну сторону, чтобы поместить ее параллельно этой наклоненной вертикали[15]. Можно сказать, что вертикаль — это направление, представленное осью симметрии нашего тела как синергетической системы. Однако мое тело может двигаться, не исключая направлений “верх” и “низ”. Например, когда я лежу на земле, как показывает опыт Вертгеймера, направление моего тела может образовать весьма заметный угол по отношению к явной вертикали зрительного поля. Мое тело как вещь в объективном пространстве, каковым оно фактически и является, и как фактическое тело с его феноменальным “местом”, определенным его задачей и направлением в качестве системы возможных действий, несет полную ответственность за ориентацию зрительного поля. Как только субъект Вертгеймера занимает подготовленное для него место в экспериментальной ситуации, область его возможных действий — таких, как прогулка, открывание шкафа, использование стола, сидение, — открывается перед ним не только как возможное, но и как привычное, даже если его глаза закрыты. Первоначально комната дается ему в зеркальном изображении. Это означает, что участник эксперимента находится вне квартиры вместе со всем ее содержимым, включая человека, которого он видит прохаживающимся из стороны в сторону. При условии, что первоначальное впечатление не усиливается, когда субъект отворачивается от зеркала, через несколько минут отраженная комната непостижимым образом дает участнику эксперимента ощущение своего пребывания в ней. Тело, отраженное в зеркале, заменяет место реального в такой степени, что субъект теряет ощущение присутствия в мире, где он реально существует. Он чувствует, что место действительных рук и ног начинают заменять руки и ноги, которые должны функционировать в отраженной комнате. Он пребывает в зрительном поле. Пространственный уровень опрокидывается и занимает новую позицию. С его помощью тело овладевает миром, и между ними возникает определенное отношение. Пространственный уровень, спроектированный только установкой моего тела в отсутствие опорных точек, как в эксперименте Нагеля, специфицированный только с помощью зрительного поля при условии неподвижности тела, как в эксперименте Вертгеймера, появляется там, где мои моторные интенции и мое перцептуальное поле объединяют свои усилия в тот момент, когда мое актуальное тело отождествляется с фактическим телом, вызванным зрительным полем, а актуальное поле зрения отождествляется с местом, окружающим его. Пространственный уровень нормализуется в тот момент, когда между моим телом, как возможностью определенных движений, как избирательной способностью предпочтительных планов действия, с одной стороны, и зрительным полем, воспринимаемым как мотив, определяющий те же самые движения, и являющимся сценой тех же самых действий, с другой стороны, заключается договор, который доставляет удовлетворение от пространства и дает вещам непосредственную власть над моим телом. Установленность пространственного уровня является только лишь одним значением конституирования целостного мира. Мое тело вовлекается в мир тогда, когда мое восприятие представляет мне зрительное поле как вариативное и отчетливо артикулированное максимально возможным образом, когда мои моторные интенции, в той степени, в которой они раскрываются, получают отклик, ожидаемый от мира. Такая максимальная острота восприятия и действия ясно указывает на перцептуальную подоплеку как основу моей жизни и общую сцену, в пределах которой мое тело может сосуществовать с миром. Используя понятие пространственного уровня и понятие тела как субъекта пространства, мы начинаем понимать феномен, описанный, но не объясненный Стрэттоном. Как могла бы “коррекция” поля, будучи систематичной, передавать общий эффект, если бы представляла собой результат ряда ассоциаций между старыми и новыми позициями? Каким образом все сектора воспринимаемого горизонта могли бы внезапно распадаться в отношении уже “откорректированных” объектов? С другой стороны, как могли бы слуховое поле и тактильное поле сопротивляться изменению, если бы новая ориентация выпала из процесса мысли и заключалась в изменении координат? Конституирующий субъект должен, per impossibile, выйти за свои собственные пределы и обрести способность предвидеть в одном месте то, что он будет делать в другом[16]. Изменение остается систематичным, но разорвано и прогрессирует потому, что я перехожу от одной системы позиций к другой, не имея ключа к каждой из них, подобно тому как человек, не имеющий музыкального слуха, поет в тональности иной, чем та, в которой он ее слушает. Владение телом предполагает способность изменять уровни и “понимать” пространство точно так же, как владение голосом предполагает способность к изменению тональности. В завершающей стадии опыта я идентифицирую откорректированное перцептуальное поле без какого-либо его осознания, поскольку я в нем живу и всецело возрождаюсь в новом зрительном поле, как бы перемещая в него свой центр тяжести[17]. В начале эксперимента визуальное поле возникает как перевернутое и нереальное, потому что субъект в нем не живет и им не затребован. В ходе эксперимента мы отмечаем промежуточную фазу, в которой тактильное тело кажется перевернутым, а окружающий мир — нормальным, ибо до сих пор я пребывал в нем и, соответственно, видел его правильным. Нарушение же, вызванное опытом, сконцентрировано в моем собственном теле, которое, вследствие этого, становится не совокупностью аффективных ощущений, а телом, затребованным для восприятия данного зрительного поля. Все это отсылает нас обратно к органическим связям между субъектом и пространством, к тому оклику, идущему к субъекту от его собственного мира, который является началом пространства. Попытаемся продолжить размышление в этом направлении. Можно спросить о том, почему чистое восприятие и привычные действия возможны только в ориентированном феноменальном пространстве? Об этом можно говорить только в том случае, если мы предполагаем, что субъект восприятия и действия сталкивается с миром, в котором уже существуют абсолютные направления и где ему остается только отрегулировать границы своего поведения. Тогда нам нужно поместить себя внутрь восприятия и попытаться как можно точнее понять то, каким образом его можно скоординировать с абсолютными направлениями; а потому мы не можем рассматривать восприятие как уже данное в основании .нашего пространственного опыта. В данном случае могут возникнуть возражения, поскольку мы уже с самого начала исходим из того, что установление уровня всегда предполагает другой данный уровень, а пространство всегда предшествует самому себе. Это замечание не только не предполагает нашего поражения, наоборот, оно побуждает нас рассмотреть саму сущность пространства и указывает единственный метод, который дает возможность его понять. Сущность пространства должна быть “уже конституированной”, и мы никогда не придем к ее пониманию, обращаясь к бессловесному восприятию. Мы не должны удивляться как тому, что бытие изначально ориентировано, а наше тело не устремляется к миру со всех своих позиций, так и тому, что его сосуществование с миром притягивает опыт и устанавливает в нем направления. Можно было бы задать вопрос: каким образом факты, которые вовлекают субъект и объект, могут оставаться безразличными к пространству, если перцептуальный опыт показывает, что они предопределены нашим изначальным столкновением с бытием и что бытие равнозначно ситуативному бытию. Для мыслящего субъекта лицо в своем естественном положении и то же лицо, наблюдаемое “вверх тормашками”, неразделимы. Если кто-то лежит на кровати, а я смотрю на него с изголовья, то лицо в этот момент выглядит вполне обычным, правда, его черты смещены. Даже сомневаясь, улыбается человек или нет, я чувствую, что смог бы, при желании, убедиться в атом, обогнув кровать и посмотрев на него с ее противоположной стороны. При растянутом поле зрения лицо неожиданно меняет свой облик, приобретая совершенно неестественные черты; его выражение становится неприятным, веки и брови приобретают несвойственное им каменное выражение. В первом случае лицо действительно перевернуто относительно “естественной” позиции: прямо перед собой я вижу выступающий, лишенный волос верх; на месте лба — красное отверстие, полное зубов; а там, где должен быть рот, — два движущихся шарика, обрамленных жесткими волосками и граничащих с прической. Вероятно, можно было бы сказать, что лицо, увиденное “правильно”, — лишь один из всевозможных аспектов, наблюдаемых мной наиболее часто, и что перевернутое лицо озадачивает меня лишь потому, что я редко его вижу. Однако мы не часто видим лица в строго вертикальном положении, “прямое” лицо не имеет статистического превосходства, и вопрос о том, почему перевернутое лицо озадачивает меня, продолжает оставаться открытым. Если же принять, что мое восприятие стандартизирует и относит к норме, в соответствии с представлением о симметрии, тогда возникает вопрос: почему за пределами фиксированного угла “коррекция” не действует? Мы вынуждены сделать вывод о том, что взгляд, скользящий по лицу и при этом выбирающий определенные направления, не узнает его, если не рассматривает детали в четко установленном порядке, и что собственное значение объекта — в данном случае лица и его выражения — должно быть связано с ориентацией самого объекта, как указывает двойное употребление французского слова “sense” (чувство, значение, направление). Перевернуть объект — значит лишить его собственного значения. Следовательно, бытие объектом не является бытием-для-мыслящего субъекта, но бытием-для-взгляда, встречающим объект под определенным углом, в противном случае ему не удалось бы распознать его. Вот почему каждый объект имеет свой “верх” и “низ”, высвечивающие для данного уровня его “естественную” позицию, которую ему “следует” занять. Видеть лицо — не значит понимать идею некоторого закона конституирования, к которому объект постоянно приспосабливается с помощью всех своих возможных ориентации. Мы должны удерживать объект, чтобы быть в состоянии следовать по его поверхности определенным перцептуальным маршрутом, имеющим верх и низ, подобно человеку, который, поднимаясь на гору, запоминает путь, по которому будет спускаться. Вообще говоря, наше восприятие не охватывало бы ни очертаний фигур, ни фона, ни объектов, не было бы восприятием чего-либо или даже совсем не существовало, если бы субъект восприятия сводился к взгляду, охватывающему вещи настолько, насколько они имеют общее направление, которое является не существенной характеристикой объекта, а средством, с помощью которого он распознается и осознается как объект. Действительно, я могу осознавать тот же самый объект по-разному ориентированным и даже, как уже указывалось, узнать перевернутое лицо. Однако это всегда обеспечивается тем, что мы мысленно занимаем позицию перед ким, а иногда поступаем так и физически, когда, например, наклоняем голову, чтобы рассмотреть фото, которое держит человек, стоящий перед нами. Таким образом, мы не в состоянии развести бытие и ориентированное бытие, разыскать основание пространства или задать вопрос о том, что такое уровень всех уровней, так как любое рассматриваемое бытие соотносится с воспринимаемым миром прямо или косвенно, а воспринимаемый мир можно понять только с точки зрения направления. Изначальный уровень расположен в горизонте всех наших восприятии, но этот горизонт принципиально не достижим и не тематизируем в нашем выраженном восприятии. Каждый из уровней, приспособленных для нормального существования, проявляется тогда, когда мы бросаем якорь в некотором предлагаемом нам “месте”. Это место само по себе пространственно обособлено только в отношении предшествующего уровня. Каждое переживание из целостной последовательности наших переживаний, включая первое, переходит во вновь достигнутую пространственность. Условие нашего первого пространственного восприятия заключается в том, что оно должно соотноситься с некоторой предшествующей ориентацией. Оно должно затем застать нас за работой в мире. Однако так как мы сами находимся в основании всего, этот мир не может быть определенным миром, определенным зрительным полем. Первый пространственный уровень нигде не может обрести точку опоры, так как для того, чтобы обособиться в пространстве, она должна найти уровень, предшествующий первому. Мое первое восприятие и мой первый контакт с миром, поскольку он не ориентирован “в себе”, должны проявиться для меня как действие, соответствующее предшествующему соглашению, достигнутому между Х и миром в общем, а моя история должна быть продолжением предыстории и использовать ранее достигнутые результаты. Мой личный опыт должен быть продолжением предличностной традиции. Следовательно, до меня существует другой субъект, для которого мир существует прежде моего мира и который отмечает в нем мое место. Этот пленник или естественный дух есть мое тело, но оно не есть тело данного момента, являющееся инструментом моего личного выбора и приданное тому или иному миру, а есть тело как система анонимных “функций”, которая сводит каждый частный фокус в общую проекцию. Подобное предпочтение бытия, которое нельзя назвать слепой привязанностью к миру, имеет место в самом начале моей жизни. Оно присоединяет каждое последующее восприятие пространства к его значению, возобновляясь в любой момент. Присутствуя в самом сердце субъекта, пространство и восприятие свидетельствуют о факте его рождения, о непреходящем значении его телесного бытия, о его связи с миром более древним, чем мысль. Вот почему они насыщают сознание, но остаются недоступными рефлексии. Нестабильность уровней зависит не только от интеллектуального опыта беспорядка, но и от опыта несерьезного и пресыщенного отношения к жизни[18] как реакции на осознание конечности существования, наполняющей нас ужасом. Фиксация уровня свидетельствует об утрате ощущения конечности, так как пространство имеет основу в нашей фактичности. Оно ни объект, ни акт унификации, связанный с субъектом. Пространство нельзя наблюдать, так как оно предполагается в каждом наблюдении, его нельзя рассматривать как продукт конституирующего действия, поскольку оно уже укоренено в своей заранее конституированной сущности, ибо только таким образом оно может, используя свою магическую силу, продемонстрировать собственную, именно пространственную, особенность на фоне окружающего мира без какого-либо явного указания на себя. Традиционные концепции восприятия исходят из того, что глубина не видима. Беркли, например, показывает, что она не может быть дана в отсутствие какого-либо средства ее фиксации, поскольку наш глаз, очевидно, получает только плоскую проекцию зрительного поля. Если все-таки на критику гипотезы постоянства возразить, что мы не можем судить об изображении на сетчатке нашего глаза, Беркли, вероятно, ответил бы, что глубину нельзя увидеть, поскольку она не простирается перед нашими глазами, а дается только в форме перспективы, независимо от истинности образа на сетчатке. В случае же аналитической рефлексии глубину нужно рассматривать как невидимую по теоретическим причинам; и даже в том случае, когда глубину можно зарегистрировать нашими глазами, чувственное восприятие должно сохранять только множественность саму по себе, выстроенную таким образом, чтобы расстояние до объекта, подобно всем другим пространственным отношениям, существовало только для субъекта, мысленно синтезирующего и схватывающего ее. Несмотря на то, что эти две доктрины диаметрально противоположны, тем не менее и та и другая ссылаются на наш действительный опыт. В обоих случаях глубина явно отождествляется с шириной, данной в перспективе, что делает ее невидимой. Аргумент Беркли, грубо говоря, именно так и выглядит. То, что я называю глубиной, в действительности есть сопоставление точек, за счет чего она сравнима с шириной. Я поставлен в такую позицию, что мне просто трудно это увидеть. Я был бы в состоянии наблюдать сопоставимость глубины и ширины в том случае, если бы имел возможность занять такую позицию в зрительном поле, при которой одним взглядом мог бы зафиксировать совокупность простирающихся передо мной объектов, тогда как в действительности они скрываются от меня друг за другом или указывают дистанцию от моего тела до первого объекта, стягивая расстояние в одну точку. Сопоставление точек, данных одновременно и в одном направлении, обусловленном моим взглядом, есть то, что не дает мне возможность видеть глубину и заставляет наблюдателя рассматривать ее как ширину. Таким образом, в том случае, когда говорят, что глубина не видима, ее уже идентифицируют с шириной. С такого рода аргументом трудно согласиться. Сходным образом интеллектуализм, при анализе переживания глубины, рассматривает мыслящего субъекта, который синтезирует это переживание за счет рефлексии, основанной на уже существующей глубине, на сопоставлении точек, данных одновременно, которые не являются глубиной, присутствующей для меня, но глубиной, присутствующей со стороны внешнего наблюдателя, рассматривающего ее как ширину[19]. Изначально уподобляя одно другому, две различных философских позиции принимают как должное результат конститутивного процесса, стадии которого мы, фактически, обязаны проследить заново. Чтобы принять глубину за ширину, рассмотренную как бы в профиль, и оказаться в однородном пространстве, субъект обязан оставить свое место в мире и отказаться от собственной точки зрения на него, осознавая себя своего рода вездесущим. Для Бога, действительно вездесущего, ширина непосредственно совпадает с глубиной. Интеллектуализм и эмпиризм не дают никакого объяснения человеческому переживанию мира; они показывают нам, как о нем может размышлять Бог. Действительно, их мир, существующий сам по себе, предполагает, что мы заменяем одно измерение другим, рассматривая этот мир безотносительно какой-либо установленной точки зрения. Каждый человек неосознанно отождествляет глубину и ширину. Это отождествление — составная часть самоочевидности интерсубъективного мира, за счет которой философы так же, как и все остальные, упускают из виду вопрос о генезисе глубины. Однако изначально мы не осознаем объективность мира и пространства. Мы пытаемся описать феномен мира, а значит то, как он впервые возникает для нас в том поле, к которому отсылает каждое восприятие и где мы пребываем в одиночестве, поскольку другие появляются на более поздней стадии, на которой знание и, в частности, науки еще окончательно не оформились и не обрели индивидуальных границ. Поэтому необходимо описать это возникновение, ибо именно с его помощью нам предназначено войти в мир. Именно глубина более непосредственно, чем все другие пространственные измерения, заставляет нас отвергнуть предварительное понятие мира и заново открыть тот изначальный опыт, который является источником его возникновения. Глубина — наиболее “экзистенциальное” из всех пространственных измерений, поскольку (и здесь аргумент Беркли вполне оправдан) она свойственна перспективе, но не вещам, а объект не является ее источником. Именно поэтому сознание неспособно извлекать глубину из перспективы, а тем более вносить ее туда. Глубина, открывающая мне вещи, указывает на нерасторжимую связь между ними и моей самостью, тогда как ширина способна передавать связь между самими вещами, в которую воспринимающий субъект не вовлечен. Заново открывая условия видения еще не объективированной глубины, мы имеем возможность вновь вернуться к рассмотрению традиционных альтернатив и получить выводы о взаимосвязи субъекта и объекта. Вот — мой стол, невдалеке, около стены, — пианино, рядом стоит автомобиль, готовый сорваться с места и умчаться прочь. Что означают выделенные слова? Для того чтобы активизировать наш перцептуальный опыт, возьмем в качестве отправной точки этот поверхностный мысленный отчет, схватывающий мир и объект. Эти слова означают, что между мной и столом существует интервал, между мной и машиной — увеличивающееся расстояние, невидимое с того места, где я нахожусь, но которое становится для меня явным за счет изменения размеров объекта. Этот размер, данный мне с очевидностью, предписывает столу, пианино и стене их место в пространстве в соответствии с их действительным размером. Я объясняю уменьшение размеров машины, во время ее постепенного движения к горизонту, с точки зрения изменения ширины, являющейся, в конечном счете, целостным значением глубины. Однако у меня есть иные способы обозначения увеличивающегося расстояния. Когда объект приближается, зрачки моих глаз, если они сфокусированы на нем, сходятся. Расстояние до объекта — это высота треугольника, основание которого и углы при основании заданы расстоянием между зрачками и их наклоном[20]. Когда я говорю, что вижу нечто на расстоянии, то имею в виду, что высота треугольника определяется соотношением этих заданных размеров. Переживание глубины, в соответствии с традиционными представлениями, состоит в интерпретации некоторых фактов — например, конвергенции глаз и явленного размера образа за счет их рассмотрения и объяснения в контексте объективных отношений. Однако моя способность возвращаться от явленного размера образа к его значению обусловлена знанием того, что существует мир неискаженных объектов, что мое тело расположено перед ним подобно зеркалу, а образ, сформированный на телесном экране, так же как и образ в зеркале, строго пропорционален расстоянию, отделяющему его от объекта. Осознание конвергенции глаз, как указателя расстояния, обусловлено моей способностью рассматривать направление взгляда извне, подобно тому, как я могу рассматривать две палочки слепого пропорционально сходящимися по мере приближения объекта[21]. Другими словами, это осознание возможно при условии объединения моих глаз, тела и внешнего мира в одном и том же объективном пространстве. “Знаки”, которые, ex hypothesis, должны ввести нас в переживание пространства, могут донести его идею только в том случае, если они уже вовлечены в него, а оно уже известно. Поскольку восприятие есть вступление в мир и, как уже утверждалось на интуитивном уровне, “для него не существует ничего такого внешнего, чем является мысль”[22], мы не способны заложить в него какие-либо объективные отношения, которые не были бы уже конституированы на его уровне. Именно поэтому картезианцы говорили об “естественной геометрии”. Значение явленного размера и конвергенцию, то есть расстояния, нельзя тематизировать и рассматривать как предварительные условия. Сами они не могут быть даны как элементы системы объективных взаимоотношений. “Естественная геометрия” или “естественное суждение” суть мифы в платоновском смысле и возникают в представлении за счет значений знаков. Однако ни знаки, ни значения, тем не менее, не установлены и эксплицитно не содержатся в мысли; мы должны вывести их, возвращаясь к перцептуальному опыту. Мы должны описать явленные размеры и конвергенцию с точки зрения нашей способности схватить их изнутри, а не так, как их рассматривает научное знание. Гештальтпсихологи[23] установили, что само восприятие не осознает их эксплицитно. Имеется в виду, что я четко не осознаю конвергенцию собственных глаз или явленные размеры, когда воспринимаю на расстоянии; они не воспринимаются мной как факты, но тем не менее входят в восприятие расстояния, что полностью подтверждается с помощью стереоскопа и иллюзии перспективы. Отсюда психологи делают вывод, что конвергенция и явленные размеры — это не знаки, а условия или причины глубины. Мы замечаем, что явление глубины формируется в том случае, если определенный размер образа на сетчатке или определенная степень конвергенции возникают в теле объективно. Этот закон сравним с законами физики и должен быть немедленно зафиксирован. Однако здесь психолог уклоняется от своей задачи. Осознавая, что явленный размер и конвергенция не присутствуют в самом восприятии как объективные факты, он начинает требовать, чтобы мы возвратились к чистому описанию феноменов, априорных объективному миру и дающих нам впечатление “живой” глубины вне зависимости от какого-либо вида геометрии. Следующим шагом психолог прерывает описание, чтобы вновь вернуться в мир, извлекая организацию глубины из цепи наблюдаемых фактов. Можно ли ограничить описание и, признав феноменальный порядок изначальным, отнести появление феноменальной глубины только лишь некоторой алхимии высшей нервной деятельности, результаты которой регистрируются опытом? Мы должны либо принять бихевиористский отказ от всех значений слова “опыт” и пытаться обосновать восприятие, понимая его как продукт мира и науки, либо заключить о том, что опыт также предлагает нам излишек бытия и, в этом случае, он не может рассматриваться как его побочный продукт. Либо опыт — ничто, либо он должен быть всеобщим. Давайте попытаемся рассмотреть, что же представляет из себя организация глубины с точки зрения психологии высшей нервной деятельности. Для любого данного явленного размера и конвергенции в определенной части коры головного мозга должен появляться функциональный строй, гомологичный организации глубины. Однако в любом случае эта глубина будет лишь фактически данной глубиной, и нам еще только предстоит ее осознать. Пережить структуру — не значит владеть ею пассивно; нужно испытать ее, освоить, утвердить эту структуру в себе, открывая ее имманентное значение. Таким образом, переживание никогда не влечет за собой отношения к определенным фактическим условиям, содержащимся в его причине[24], и не может зависеть от этих факторов, в той мере, в которой они фигурируют в нем, даже если осознание расстояния зависит от определенного значения конвергенции и определенного размера образа на сетчатке. Поскольку мы не обладаем его переживанием в эксплицитной форме, необходимо сделать вывод о том, что это переживание для нас не является тетическим. Конвергенция и явленные размеры не представляют собой ни знаки, ни причины глубины. Они присутствуют в переживании глубины в качестве мотива, участвующего в решении, даже если он не артикулирован и явно не установлен. Что же мы подразумеваем под мотивом и что имеем в виду, говоря, например, о мотиве путешествия? Мы имеем в виду, что исток путешествия содержится в определенных фактах не в том смысле, что эти факты сами по себе имеют физическую способность его вызвать, а в том смысле, что они обеспечивают причину, чтобы его предпринять. Мотив — это основание, которое действует только посредством своего значения; и можно добавить, что мотив — это решение, увеличивающее ценность значения и придающее ему силу и эффективность. Мотив и решение — два элемента ситуации; первый — это ситуация как факт, второй — ситуация принятия. Так, например, смерть становится мотивом моего путешествия, поскольку эта ситуация требует моего присутствия, для того чтобы утешить несчастную семью или “отдать последний долг” усопшему. Собираясь предпринять это путешествие, я оцениваю наиболее значимый мотив и принимаю ситуацию. Таким образом, осуществляется корреляция между мотивирующим и мотивированным. Подобная связь существует между опытом конвергенции или явленным размером и переживанием глубины. Они не представляют собой чудодейственную “причину” образования организованного феномена глубины, наоборот, они наглядно мотивируют глубину, поскольку содержат ее в своем значении и уже являются определенным способом видения расстояния. Мы уже отмечали, что конвергенция глаз не является причиной глубины, а сама предполагает ориентацию направления объекта, размещенного на определенном расстоянии. Теперь сконцентрируем наше внимание на понятии явленного размера. Когда мы долго смотрим на освещенный объект, оставляющий после себя остаточное изображение, а затем фокусируемся на экранах, отстоящих от нас на разных расстояниях, то диаметр остаточного образа увеличивается пропорционально удалению экрана[25]. Эффект увеличенной луны, расположенной близко над горизонтом, был давно уже объяснен ссылкой на большое количество объектов, опосредующих и подчеркивающих расстояние, и таким образом увеличивающих явленный диаметр. Отсюда следует, что феномен “явленного размера” и феномен расстояния — две особенных черты общей организации зрительного поля, причем первый относится ко второму не как знак к своему значению, не как причина к действию, а как мотивирующее к мотивированному. Они взаимодействуют в своем значении. В переживании явленный размер есть не что иное, как способ выражения нашего видения глубины, и не является знаком или указателем глубины, невидимой самой по себе. Гештальтпсихология способствовала демонстрации того, что явленный размер удаляющегося объекта не изменяется пропорционально образу на сетчатке; точно так же явленный размер диска, вращающегося вокруг одного из своих диаметров, не изменяется, что можно было бы предположить в соответствии с представлениями о геометрической перспективе. В моем восприятии удаляющийся объект уменьшается, а приближающийся увеличивается с меньшей скоростью, чем физический образ на сетчатке. Вот почему приближающийся поезд на экране кинотеатра увеличивается в размерах гораздо больше, чем это было бы в реальности. Таким же образом холм, казавшийся высоким, на фотографии выглядит незначительным. Наконец, именно поэтому диск, расположенный наклонно относительно нашего лица, сопротивляется геометрической перспективе, что показали Сезанн и другие художники, изображая суповую тарелку видимой сбоку и изнутри одновременно. Вернее говоря, нам не пришлось бы изучать перспективу, если бы ее искажения были ясно даны. Однако гештальтпсихологи рассуждают таким образом, как если бы искажение наклоненной тарелки явилось результатом компромисса между ее формой, увиденной сверху, и геометрической перспективой, а явленный размер удаляющегося объекта — результатом компромисса между его размером, видимым в пределах досягаемости, и тем гораздо меньшим размером, который геометрическая перспектива приписывает объекту. Фактически же они рассуждают так, как будто бы постоянство формы и размера является реальным состоянием, как будто бы кроме физического образа объекта на сетчатке существует его же “ментальный образ”, который остается относительно постоянным в то время, как первый меняется. В реальности “ментальный образ” пепельницы не больше и не меньше физического образа одного и того же объекта на сетчатке моего глаза; не существует ментального образа, который, подобно вещи, можно было бы сравнить с физическим образом; не существует ментального образа, имеющего определенный размер, соотносимый с физическим, и располагающегося, как экран, между мной и вещью. Содержание сознания не наполняет мое восприятие; оно заполнено самой пепельницей. Явленный размер воспринимаемой пепельницы не поддается измерению. Пока мои глаза открыты, я не могу ответить на вопрос о размере ее диаметра. Руководствуясь интуицией, я закрываю один глаз и отмечаю размеры пепельницы, например на карандаше, помещая его на расстоянии вытянутой руки и используя как измерительный инструмент. Поступая подобным образом, я не имею права говорить, что свожу воспринимаемую перспективу к геометрической и изменяю пропорции зрительного поля. Я не имею права говорить, что уменьшаю предмет, находящийся на расстоянии, или, наоборот, увеличиваю его, в том случае, если он находится близко. Я вынужден, скорее, сказать, что заставил размер появиться там, где его до сих пор не было, разрушая воспринимаемое поле и изолируя пепельницу, фиксируя ее место. Постоянство явленного размера в удаляющемся объекте не является действительным постоянством его некоторого ментального образа, способного противостоять искажению перспективы, подобно тому, как твердый предмет противостоит давлению. Тарелка сохраняет форму круга не потому, что он сопротивляется сжиманию перспективы; именно поэтому художник, который может нарисовать тарелку только в реальном виде и на реальном полотне, удивляет зрителя, когда пытается передать переживание самой перспективы. Рассматривая дорогу, которая, извиваясь, уходит за горизонт, я не могу сказать, что ее стороны даны мне сходящимися или параллельными; они — параллельны в глубине. Я поглощен самой дорогой и захвачен ее визуальным искажением; глубина — это только интенция, которая не определяет ни проекцию дороги в перспективе, ни “реальную” дорогу. Но разве человек, находящийся в двухстах метрах отсюда, не меньше размером, чем на расстоянии пяти метров? Он становится таковым только в том случае, если я извлекаю его из воспринимаемого контекста и измеряю его явленный размер. В противном случае он — ни меньше, ни равен по размеру; он — прежде равенства и неравенства, он тот же самый человек, увиденный издалека. Можно только сказать, что человек на расстоянии двухсот метров гораздо менее различим, так как, из-за ограниченности моей способности видения, определяется менее устойчивыми точками, на которых может остановиться взгляд. Можно говорить также о том, что он не полностью занимает мое визуальное поле, конечно, имея в виду, что само визуальное поле не является измеримым пространством. Говорить о том, что объект занимает только малую часть моего визуального поля, — значит говорить, что он не предлагает достаточно богатой конфигурации, способной полностью поглотить мое усилие видеть отчетливо. Мое визуальное поле не имеет определенного ограничения и способно содержать большее или меньшее количество вещей в соответствии с тем, как я вижу — “на расстоянии” или “рядом”. Следовательно, явленный размер находится в определенной зависимости от расстояния, он привносится расстоянием, а также сам вносит его. Конвергенция, явленный размер и расстояние считываются каждый с другого, взаимно символизируя или означивая друг друга естественным образом, и являются абстрактными элементами ситуации, присутствуя в ней как синонимичные, не потому, что субъект восприятия постулирует объективные отношения между ними, а потому, что, напротив, он не рассматривает их отдельно и, следовательно, у него нет необходимости унифицировать их явным образом. Принимая различные “явленные размеры” удаляющегося объекта, нет необходимости синтезировать их, если ни один из них специфически не установлен. Мы “обладаем” удаляющимся объектом, никогда не прекращая его “держать” и им овладевать, а увеличивающееся расстояние не связано с увеличивающимся образом, от которого зависит ширина. Оно показывает только то, что вещь начинает ускользать из-под власти нашего взгляда и становится менее тесно связанной с ним. Расстояние — это то, что позволяет устранить исходную близость между процессом исчезновения объекта из зрительного поля и взглядом, следующим за объектом. После предварительного определения “прямой” и “сходящейся” линий мы устанавливаем расстояние в отношении нашей способности схватывать объект. Иллюзии, относящиеся к глубине, принципиально заставляют нас осознавать ее как структуру понимания. Они возникают, когда глаза находятся в определенной степени конвергенции, как в стереоскопе, или когда субъект рассматривает рисунок, имеющий перспективу. Но, может быть, я вижу воображаемую глубину там, где ее нет, не потому, что обманчивые знаки приводят к гипотезе глубины, а потому, что видение расстояния вообще всегда интерпретируется с помощью знака? Однако в данном случае совершенно очевидно наше исходное допущение: мы полагаем, что невозможно увидеть то, чего нет, и, следовательно, определяем видение с точки зрения сенсорного впечатления, опуская первоначальную связь с мотивацией, которую заменяем одним из ее значений. Мы уже видели, что несовпадение размеров образов на сетчатке, стимулирующее конвергенцию, не существует само по себе; оно существует только для субъекта, который, стремясь к синергии, пытается объединить монокулярные феномены, сходные по структуре. Единство бинокулярного видения вместе с восприятием глубины, без которой оно не может осуществиться, возникает, следовательно, с того самого момента, когда монокулярные образы представляются “несопоставимыми”. Когда я смотрю в стереоскоп, передо мной предстает тотальность, в которой возможный порядок уже сформирован, а ситуация предзнаменована. Моя моторная реакция откликается на эту ситуацию. Сезанн считал, что творчество художника “мотивировано стремлением внести целесообразность в природу”[26]. Акт фокусирования в стереоскопе является в равной степени реакцией на вопрос, поставленный данными, причем эта реакция содержится в самом вопросе. Именно само поле движется к совершенству симметрии, и глубина — это просто момент перцептуальной уверенности в единственности вещи. Рисунок, данный в перспективе, — это не первоначальное восприятие нарисованного на плоской поверхности с последующей организацией глубины. Линии, уходящие за горизонт, не даны изначально как наклонные, которые осознаются горизонтальными. Весь рисунок, выстраиваясь в глубину, стремится к собственному равновесию. Тополю у дороги, который нарисован меньшим по размеру, чем человек, позволяет оставаться деревом, изображенным реально и правдиво, только его удаление к горизонту. Рисунок именно сам стремится к глубине подобно тому, как камень падает вниз. Организация рисунка не будет стабильной, если достижение полностью определенной симметрии возможно различными способами, что наблюдается в случае рисунков-перевертышей.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Так, рис. 1 можно рассматривать или как куб, видимый снизу, со стороной ABCD спереди, или как куб, видимый сверху, с передней стороной EFGH, или как мозаику из десяти треугольников и одного квадрата. С другой стороны, рис. 2 почти неизбежно видится как куб, поскольку это единственная организация, дающая ему полную симметрию[27]. Глубина рождается под моим взглядом, так как он пытается увидеть нечто. Но кто же этот перцептуальный гений, действующий в визуальном поле и всегда стремящийся к наиболее выраженной форме? Возвращаемся ли мы, в данном случае, обратно к реализму? Приведем пример. Организация глубины разрушается не тогда, когда я добавляю к рисунку какие-либо неясные линии (рис. 3 продолжает оставаться кубом), а тогда, когда я добавляю такие линии, которые разъединяют элементы одной плоскости и соединяют элементы других плоскостей (рис. 1)[28]. Что же мы подразумеваем, когда говорим о том, что эти линии разрушают глубину? Разве мы не пользуемся языком ассоциаций? Мы не имеем в виду, что линия ЕН (рис. 1) действует как причина, дезорганизуя куб, в который ее ввели, но она вызывает общее впечатление, при котором исчезает глубина. Естественно, линия ЕН сама обладает такой индивидуальной чертой, но только в том случае, если я воспринимаю и отслеживаю ее, акцентируя на этом внимание. Однако подобное нарушение линейности в результате схватывания не является произвольным. Оно вызвано к жизни феноменами. Последнее замечание нельзя назвать первостепенным, поскольку оно относится к двусмысленному рисунку, а в нормальном визуальном поле изоляция плоскостей от линий неустойчива; например, прогуливаясь по дороге, я не отдаю себе отчет в том, что могу увидеть пространственные промежутки между деревьями так же, как вижу вещи, если сами деревья рассматривать как фон. Несомненно, я обладаю переживанием ландшафта, осознавая, однако, что в этом переживании я принимаю фактическую ситуацию, собирая в единое целое значение, рассеянное среди феноменов, и говорю о том, что они означают в своей совокупности. Даже в том случае, когда я могу изменить организацию, основываясь на ее двусмысленности, мне не удается сделать это непосредственно: одна из сторон куба выдвигается на передний план только в том случае, если я первоначально сконцентрирован на ней и мой взгляд рассматривает ее в качестве точки отсчета, из которой по наклонным линиям он следует ко второй стороне, проявляющейся в качестве промежуточного фона. Если я рассматриваю рис. 1 как мозаику, то это обусловлено тем, что взгляд прежде всего концентрируется в центре, а затем равномерно распределяется по всему рисунку. Иногда я вынужден ждать появление подобной организации рисунка аналогично тому, как Бергсон ожидает, когда растворится кусочек сахара. Более того, в этом случае, при условии нормального восприятия, значение того, что воспринимается, дано мне как встроенное заранее, а не конституированное мной, и взгляд выступает как разновидность познавательного механизма, который рассматривает вещи в соответствии с тем, как они появляются в зрительном поле, или разделяет их, согласно естественному сочленению. Очевидно, что прямая линия ЕН считается прямой только в том случае, если я пробегаю взглядом вдоль нее; то есть это — не вопрос, относящийся к ментальной сфере, а вопрос, связанный с взглядом и означающий, что мой акт не первичен и не конститутивен, а вызван или мотивирован. Каждый фокус всегда является фокусом того, на чем фокусируются. Когда я сфокусирован на стороне ABCD, это означает не только то, что я привожу ее к состоянию ясной видимости, но также и то, что я принимаю в расчет ее как фигуру, расположенную ко мне ближе, чем другая сторона куба. Одним словом, я организую куб, и взгляд является тем гением восприятия, который указывает на мыслящего субъекта, способного дать вещам точный ответ, которого они ожидают для того, чтобы существовать прежде нас. Чем же тогда, в результате, является видение куба? Эмпирик скажет, что куб ассоциируется с актуальными аспектами рассматриваемого рисунка и с множеством других явлений, представляющих с определенной стороны и с различных углов четырехугольник, расположенный ближе к нам. Однако, рассматривая куб, я не нахожу в себе каких-либо из этих образов; они — незначительное изменение в восприятии глубины, которая делает их возможными, не являясь при этом их результатом. Что же тогда представляет собой тот единый акт, посредством которого я охватываю возможность всех подобных проявлений? Согласно интеллектуализму, куб — это мысль о кубе, то есть о твердом теле, состоящем из шести равных сторон и двенадцати равных линий, расположенных под прямым углом друг к другу, а глубина есть ничто иное, как их сосуществование. Однако здесь в очередной раз в качестве определения глубины нам преподносится то, что представляет собой не более чем ее следствие. Шесть сторон и двенадцать равных линий не являются целостным значением глубины, и это определение без глубины бессмысленно. Шесть сторон и двенадцать равных линий могут сосуществовать и оставаться для меня равными только в том случае, если они организованы с помощью глубины. Акт, корректирующий явления и задающий острым и тупым углам значение прямых углов, а искаженным сторонам — значение квадратов, не заключается в идее геометрического отношения равенства и в геометрическом способе бытия, к которому она принадлежит. С его помощью объект обволакивается моим взглядом, который, проникая и оживляя куб, показывает в тот же миг боковые стороны как “квадраты, увиденные искоса”, с такой степенью достоверности, что мы даже не замечаем их искажения перспективой, подобно граням алмаза. Этот акт — соприсутствие переживаний, которые, тем не менее, взаимно исключают друг друга; и эта взаимная вовлеченность и противоречивость в рамках единого акта восприятия целостности возможного процесса конституирует своеобразие глубины. Глубина — это параметр, в котором вещи и элементы вещей вложены друг в друга, в то время как ширина и высота — параметры, в которых вещи расположены рядом. Следовательно, нельзя говорить о синтезе глубины, так как синтез предполагает или, по крайней мере, устанавливает, как в кантовском синтезе, дискретные условия, но глубина не требует того, чтобы множественность проявлений перспективы прояснялась с помощью анализа, а рассматривает эту множественность только на фоне устойчивой вещи. Этот квазисинтез можно объяснить, если понимать его как временный. Когда я говорю, что вижу объект на расстоянии, то имею в виду, что уже или все еще удерживаю его, он находится в будущем или в прошлом так же, как находится в пространстве[29]. Возможно, будет сказано, что это — так только для меня. Лампа сама по себе существует в то же самое время, когда я ее воспринимаю; расстояние между мной и лампой — это расстояние между одновременными объектами, и это — одновременность, содержащаяся в каждом значении восприятия. То, что это именно так, не подвергается сомнению. Однако сосуществование, фактически определяющее пространство, не чуждо времени, а представляет собой два феномена, принадлежащих к одной и той же временной волне. Что же касается связи воспринимаемого объекта и моего восприятия, то она не может объединить их в пространство без того, чтобы не объединить их и во времени. Они — со-временны. “Порядок сосуществования” неотделим от “порядка последовательности” или, вернее сказать, время не является только лишь осознанием последовательности. Восприятие обеспечивает меня “полем присутствия”[30] в широком смысле этого слова, которое расширяется в двух измерениях: измерении здесь—там и измерении прошлое—настоящее—будущее. Я “удерживаю”, я “обладаю” объектом на расстоянии без какого-либо эксплицитного установления пространственной перспективы (явленный размер и форма), так как непосредственное прошлое без какого-либо искажения и без какого-либо навязанного “воспоминания” все еще остается “в моих руках”[31]. Если мы хотим назвать это синтезом, то, используя терминологию Гуссерля, подобный синтез выступает как “синтез—переход”, который не связывает несоизмеримые перспективы, а осуществляет переход от одной к другой. Психология столкнулась с целом рядом трудностей, пытаясь объяснить память как процесс овладения определенными содержаниями или воспоминаниями, то есть следами ушедшего прошлого в настоящем (в теле или в бессознательном), поскольку с помощью этих следов мы никогда не сможем понять воспоминание прошлого как прошлое. Подобным образом мы никогда не придем к пониманию восприятия расстояния, если в качестве отправной точки будем рассматривать все предметы расположенными на равном удалении друг от друга, придерживаясь при этом плоскостной проекции мира, в той же степени, в которой мы никогда не поймем воспоминания, рассматривая их как проекции прошлого в настоящем. И так же, как память может быть понята только как непосредственное обладание прошлым без промежуточного содержания, так же и восприятие расстояния может быть понято только как бытие на расстоянии, поскольку в момент своего возникновения, это расстояние устанавливает связь с бытием. В длящемся и непрерывном переходе от одного мгновения к другому память, образуя фон преемственности, смыкает эти мгновения в их целостном горизонте. Тот же самый непрерывный переход подразумевает объект, как если бы он здесь отсутствовал, в его “реальных” размерах, которые я должен был бы видеть, воспринимая объект со стороны. Точно так же, как невозможно обсуждать проблему “сохранения воспоминаний”, кроме как рассматривая время и выявляя прошлое как неотъемлемое качество сознания, точно так же нельзя обсуждать проблему расстояния (а именно, непосредственно видимого расстояния) при отсутствии возможности выявить живое присутствие, в котором оно конституировано. Как уже было замечено, мы должны показать, что глубина как отношение между вещами и между плоскостями является объективированной глубиной, извлеченной из опыта и преобразованной в ширину. Нам необходимо вновь открыть изначальную глубину, которая придает значение объективированной глубине, являясь опосредующей толщей, лишенной каких-либо вещей. Изначальную глубину можно проиллюстрировать на примере нашего непосредственного пребывания в мире без какого-либо активного участия или на примере болезни, во время которой мы испытываем особое удовольствие от пассивности нашего положения, когда различные плоскости не могут больше четко различаться, а цвета, лишенные своей определенности, растворяются в окружающей среде. Например, больной, который собирается что-либо написать на листке бумаги, чтобы достигнуть ее поверхности, должен проникнуть пером в определенную толщу белизны. Эта толща или насыщенность отличается от цвета бумаги и, как таковая, является выражением ее качественной сущности[32]. Таким образом, мы можем говорить о такой глубине, которая не функционирует между объектами, которая, a fortiori, даже не определяет расстояние между ними. Такая глубина открывает изначальное восприятие некоторой призрачной, размытой и едва определяемой вещи. Даже при нормальном восприятии глубина не может быть изначально применима к вещам. Подобно тому, как верх и низ, правое и левое не могут быть даны субъекту вместе с воспринимаемым содержанием, а конституируются в каждый момент времени вместе с пространственным уровнем, в отношении которого сориентированы вещи, точно так же глубина и размер привходят в вещи в силу того, что они располагаются в отношении к уровню расстояний и размеров[33], который определяет далекое и близкое, большое и малое до того, как какой-либо объект обеспечивает нас стандартом для сравнения. Когда мы говорим, что объект — огромный или крошечный, близкий или далекий, то зачастую это случается без какого-либо сравнения, даже имплицитного, с каким-либо другим объектом, размером или объективной позицией нашего собственного тела. Мы определяем объект, таким образом, исходя из определенной “сферы” наших жестов, определенной способности “удержания” феноменальным телом окружающей среды. Если бы мы отказались признать этот источник размера и расстояния, то переходили бы от одного “стандартного” объекта к другому и не смогли бы понять, какие размеры и расстояния могут существовать для нас. Патологические переживания при микропсии и сама микропсия, изменяя, как таковые, явленные размеры всех объектов в зрительном поле, не оставляют стандарта, в отношении которого объекты могут проявляться как большие или меньшие, чем обычно. Их понимание возможно только за счет ссылки на объективный стандарт расстояний и размеров. Глубину, о которой идет речь, невозможно понять, если рассматривать ее как составную часть мысли о внепространственном субъекте. Ее можно понять только как возможность присутствия субъекта в этом мире. Анализ глубины аналогичен тому анализу, который мы пытались провести в отношении высоты и ширины. В этом разделе рассмотрение глубины предшествовало рассмотрению других измерений, поскольку, на первый взгляд, эти измерения касаются отношений между самими вещами, в то время как глубина непосредственно обнаруживает связь между субъектом и пространством. Однако ранее мы видели, что в реальности горизонтальное и вертикальное направления, в конечном счете, выступают как наилучшие положения, удерживающие наше тело в мире. Ширина и высота как отношения между объектами являются производными, но если рассматривать их первичное значение, то они приобретают более “экзистенциальный” характер. Мы не можем согласиться с Лагну и Аланом, что высота и ширина предполагают глубину, поскольку зрительное поле, рассматриваемое в единой плоскости, предполагает сочленение всех своих частей в плоскости моего лица. Их анализ касается только уже объективированных ширины, высоты и глубины, а не исходит из опыта, который открывает эти измерения для нас. Вертикальное и горизонтальное, далекое и близкое суть абстрактные обозначения единой формы бытия в ситуации и предполагают столкновение субъекта и мира лицом к лицу. Движение — это перемещение или изменение позиции, даже если ее нельзя определить как таковую. Аналогично идее, определяющей позицию с точки зрения отношений в объективном пространстве, с которой мы начинали исследование, существует и объективная концепция движения, определяющая позицию с точки зрения внутримировых отношений и рассматривающая опыт мира как установленный. Аналогично тому, как мы возвращались к первоначальной установленности пространства, к дообъективной ситуации или к ограниченности субъекта, пребывающего в своем окружении, мы должны вновь обнаружить объективную идею движения в дообъективном опыте, из которого она извлекает свое значение, и в котором движение все еще остается привязанным к воспринимающему его человеку и является вариантом овладения субъектом своим миром. Пытаясь мыслить движение и разрабатывая его философию, мы незамедлительно попадаем под влияние критической установки, направленной на проверку истины. Мы спрашиваем себя, что же в действительности дано нам в движении; мы готовы отвергнуть явления, чтобы постичь истину движения, не осознавая, что именно эта установка редуцирует феномен и противостоит нашему желанию охватить его, поскольку она вводит вместе с понятием истины в себе такое предположение, которое способно скрыть от нас генезис движения. Предположим, что я бросаю камень. Он пролетает над садом. На мгновение он становится удаляющимся предметом, напоминающим метеор, а затем, когда падает на землю на некотором расстоянии, вновь становится камнем. Если я хочу “ясно” помыслить этот феномен, то его необходимо разложить на составные части. Я должен предположить, что сам камень реально в движении не изменяется. Поскольку камень, который я держал в своей руке и который обнаружил на земле в момент окончания его полета, — один и тот же, то, следовательно, он является тем же самым камнем, который передвигался в воздухе. Движение — это только атрибут движущегося тела и невидимо в самом камне. Оно может быть только изменением отношений между камнем и средой, окружающей его. Мы можем говорить о движении в той мере, насколько камень сохраняет свою идентичность, противополагаясь в различных соотношениях своему окружению. Если, с другой стороны, я предполагаю, что камень исчезает, достигая точки Р, а другой камень, тождественный первому, возникает из ничего в точке Р', находящейся на максимально близком расстоянии к первой точке, то, в этом случае, мы имеем не одно, а два различных движения. Следовательно, не существует движения, отличного от движущегося тела, которое бы переносило его от начальной точки к конечной, сохраняя свою непрерывность. Поскольку движение никоим образом не присуще движущемуся телу, а всецело заключается в его отношениях со своей окружающей средой, оно не может обойтись без внешнего указателя. Действительно, указатель является наилучшим способом наиболее явного приписывания движения “телу в движении”. Если различия между телом в движении и движением установлены, то не существует ни движения без движущегося тела, ни движения без объективного указателя, ни абсолютного движения. Тем не менее, эта идея фактически отрицает движение. Для того чтобы точно отличить движущееся тело от движения, необходимо, строго говоря, утверждать, что “движущееся тело” не движется. Как только мы привносим идею движущегося тела, которое остается в течение своего движения одним и тем же, аргументы Зенона вновь обнаруживают свою актуальность. В этом случае бесполезны возражения о том, что мы не должны рассматривать движение как последовательность дискретных позиций, соотносящихся с последовательностью дискретных моментов времени, и что пространство и время не состоят из совокупности дискретных элементов. Даже если мы рассматриваем два завершенных последовательных момента и две фиксированные примыкающие точки, то все равно между ними в каждом случае существует различие, несмотря на то, что оно меньше любого заранее заданного количества, а их дифференциация находится в начальной стадии. Идея движущегося тела, идентичного во всех фазах движения в качестве простого явления, исключает феномен “сдвига” и предполагает идею пространственной и временной позиций, которые всегда идентичны в себе, даже если они не являются таковыми для нас, и, следовательно, такое положение камня, которое всегда существует и никогда не изменяется. Даже если мы создадим математический способ, позволяющий зафиксировать неопределенную множественность позиций и моментов, то все равно невозможно понять сам акт перехода, имеющий место в одном и том же движущемся теле, который всегда осуществляется между двумя моментами и двумя позициями, независимо от того, в какой близости друг от друга мы их выбираем. Таким образом, пытаясь отчетливо мыслить движение, я не могу понять, как возможно его начало и то, как оно может быть дано мне как феномен.
Рис. 4
Тем не менее в тот момент, когда я нахожусь в движении, я переживаю его, несмотря на проблемы и апории, возникающие в рефлексии, а это, вопреки логике ясной мысли, означает, что я воспринимаю движение без какого-либо идентичного движущегося объекта, безотносительно к чему-либо и при отсутствии какого-либо внешнего указателя. Если мы предъявим субъекту две линии А и В попеременно, то он будет наблюдать непрерывное движение первоначально от А до В, затем от В до А, потом вновь от А до В и так далее; мы будем наблюдать единую линию, непрерывно движущуюся назад и вперед, даже в том случае, если для них не установлены ни промежуточная, ни крайняя позиции. Однако существует возможность вполне отчетливо различать крайние положения с помощью ускорения или замедления скорости представления. Стробоскопический эффект в этом случае способствует нарушению восприятия движения; первоначально линия появляется в положении А, затем неожиданно обретает свободу и перескакивает в положение В. Если продолжать наращивать или замедлять ритм, стробоскопическое движение заканчивается, и мы остаемся с двумя одновременными или последовательными линиями[34]. Следовательно, восприятия позиций, так же как и восприятия движений, подвержены инверсии. Можно даже показать, что движение ни при каких обстоятельствах не сводится к последовательному заполнению движущимся телом каждой позиции, заключенной между двумя крайними позициями. Если при стробоскопическом движении мы используем белые или цветные рисунки на черном фоне, то на пространство, в котором происходит движение, они, на определенный момент времени, не накладывают своего отпечатка. Если между крайними положениями А и В расположить короткий стержень С, то он не может мгновенно охватываться происходящим движением (рис. 4). Вместо “перехода линий” мы имеем чистый “переход”. Если мы работаем с тахистоскопом, то субъект, воспринимая движение, зачастую не будет способен идентифицировать его в качестве движения. Аналогичная ситуация возникает при рассмотрении реального движения; если я наблюдаю за тем, как рабочие разгружают грузовик и передают кирпичи по цепочке, то первоначально рука человека видна в одном, а затем в другом положении, в исходной и конечной позициях, и я имею живое представление о ее движении, несмотря на то, что не воспринимаю руку в каком-либо промежуточном положении. Быстро передвигая карандаш по листу бумаги, на котором мной отмечена точка, я мгновенно осознаю, что карандаш прошел через эту точку; я осознаю движение, несмотря на то, что не видел ни одного из промежуточных положений. И наоборот, впечатление движения исчезает в тот самый момент, когда я, не упуская из виду карандаш, замедляю его движение[35]. Движение исчезает в тот момент, когда оно наиболее полно сообразуется с определением, которое дает ему объективная мысль. В связи с этим можно указать на феномен, при котором объект в движении появляется только тогда, когда он схватывается. Для такого объекта движение не совершается путем последовательного перехода из одной определенной позиции в другую. Он схватывается только как источник, определяющий и завершающий процесс своего движения. Следовательно, даже в тех случаях, где движущийся объект наблюдаем, движение не соотносит его с посторонней сущностью и не устанавливает отношение между ним и внешней стороной; и мы способны овладевать движением в отсутствие какой-либо фиксированной отметки. Действительно, если мы проектируем последовательный образ движения на однородное поле, не содержащее никакого объекта и не имеющее очертаний, то движение охватывает все пространство, а целостность визуального поля изменяется. Если мы проецируем на экран остаточный образ спирали, вращающейся вокруг своего центра в отсутствие каких-либо фиксированных контуров, само пространство, вибрируя, смещается от центра к периферии[36]. В конечном счете, поскольку движение более не является системой внешних отношений к объекту, находящемуся в движении, то ничто не мешает нам признать абсолютное движение, что в действительности постоянно подтверждается нашим восприятием. Однако в этом случае постоянно возникают возражения, в которых утверждается, что данное описание лишено смысла. Психолог отвергает рациональный анализ движения. Когда ему указывают на то, что любое движение для того, чтобы быть движением, должно быть движением чего-либо, он отвечает: “Это не имеет оснований в психологическом описании”[37]. Но, если то, что описывает психолог, есть движение движущейся вещи, то оно должно быть отнесено к чему-то такому, что идентично этой вещи. Если я оставил часы на столе в своей комнате, и они внезапно исчезли, появившись через несколько мгновений на столе в другой комнате, то это перемещение я не могу называть движением[38]. Движение происходило бы только тогда, когда часы действительно занимали бы промежуточные положения. Даже если психолог может показать, что стробоскопическое движение осуществляется в отсутствие какого-либо промежуточного стимула, расположенного между крайними положениями, и даже если он настаивает на том, что освещенная линия А не проходит через пространство, отделяющее ее от линии В, что в течение стробоскопического движения никакой свет в промежутке между А и В не воспринимается, и что я фактически не вижу карандаш и руки рабочего между двумя крайними положениями, тем не менее, факт остается фактом: для того чтобы движение было явным, движущееся тело так или иначе должно присутствовать в каждой точке своего пути. Несмотря на то, что движущееся тело перцептуально не присутствует во всех этих позициях, оно, тем не менее, мыслится в них. То, что верно относительно движения, будет “верным” и в отношении изменения. Когда я говорю о том, что факир подменяет яйцо платком или что волшебник на крыше своего дворца превращается в птицу, то в этом случае я вовсе не имею в виду то, что объект или человек исчезают и непосредственно подменяются другими предметами[39]. Должна быть некоторая внутренняя связь между тем, что исчезает, и тем, что начинает существовать. Оба предмета должны быть двумя проявлениями, явлениями или двумя стадиями чего-то самотождественного, последовательно представляющего себя в двух формах[40]. Таким образом, движение, достигающее следующей точки, должно быть движением, удаляющимся от “примыкающей точки”, и это происходит только тогда, когда объект находится в движении, оставляя одно место и занимая другое. Если мы вынуждены прекратить рассматривать круг как то, что понималось под этим понятием, и считаем, что момент “круглости” или идентичность всех диаметров, как сущностные свойства круга, перестали присутствовать в нем, то все равно должна существовать общая отличительная черта, заставляющая нас в любом случае охарактеризовать представленную нам вещь как круг и отличать ее от другого феномена[41], причем будет ли круг восприниматься или наблюдаться в действительности — вопрос не существенный. Подобным образом, когда мы говорим об ощущении движения или об осознании движения, sui generis, или, подобно гештальтпсихологам, говорим о глобальном движении феномена, в котором не даны ни движущийся объект, ни обособленные положения движущегося объекта, то все это остается просто пустословием, если мы при этом не говорим о том, “что дано в этом ощущении или в этом феномене”, или о том, “что схвачено посредством их и непосредственно передано как движение”[42]. Восприятие движения может быть восприятием движения и признанием его в качестве такового только в том случае, если понимать его значение в совокупности всех моментов, его конституирующих и, в частности, с идентичностью объекта в движении. Движение, — отвечает психолог, — “один из таких психических феноменов”, которые подобно данным ощущений, таких как цвет и форма, относятся к предмету, проявляясь объективно, а не субъективно, но отличаются от других ментальных данных тем, что имеют динамическую, а не статическую природу. Например, характерный и специфический “эффект перехода” есть плоть и кровь движения, которое нельзя составить из обычных визуальных данных[43]. Действительно, невозможно составить движение из статичных восприятии. Однако мы не затрагиваем этой проблемы и не ставим вопроса о сведении движения к состоянию покоя. Объект в состоянии покоя так же нуждается в идентификации. Нельзя сказать, что объект находится в состоянии покоя, если он постоянно исчезает и вновь появляется и при этом не сохраняется в мгновенной смене представлений. Следовательно, идентичность, на которую мы указываем, предшествует установлению различий между движением и покоем. Движение невозможно без тела в движении, предписывающего ему целостность и обеспечивающего его единство. В этом случае, метафора динамического феномена приводит психолога к заблуждению. Нам представляется, что сама сила обеспечивает движение единством, и это происходит потому, что мы всегда предполагаем, что кто-то непременно находится в том месте, где необходимо идентифицировать движение в процессе его развития. “Динамические феномены” получают свое единство от меня, переживающего и осуществляющего его синтез. Таким образом, мы переходим от идеи движения, разрушающей само движение, к переживанию движения, стремящегося придать ему основание, а затем, — от переживания движения к его идее, без которой опыт лишен смысла. В этом случае мы не можем рассматривать позицию психолога как более обоснованную, чем позиция логика, или наоборот. Так же мы не должны рассматривать одну из них как менее оправданную, чем другая. Необходимо признать значение исследуемых тезиса и антитезиса одинаково истинными. Логик прав, когда требует установить сам “динамический феномен” и описать движение с точки зрения движущегося объекта, который сопровождается нами в течение его пути, но он не прав, рассматривая идентичность объекта в движении как выражение идентичности в чистом виде; и в этом он вынужден признаться. С другой стороны, психолог, описывая феномены как можно достовернее, руководствуется, вопреки своим намерениям, потребностью ввести движущееся тело в движение; однако он имеет преимущество за счет конкретности способа, с помощью которого познается это тело. Каким образом ответ Вертгеймера на интересующую нас проблему служит иллюстрацией продолжающегося спора между психологией и логикой? Он полагает, что восприятие движения не является вторичным по отношению к восприятию движущегося объекта, что мы не привносим в восприятие движущегося объекта восприятие движения за счет идентификации, связывающей его позиции в определенную последовательность[44], что разнообразие этих позиций не подпадает под какое-либо трансцендентное единство. Вертгеймер считает, что идентичность объекта в движении вытекает непосредственно из “опыта”[45]. Другими словами, когда психолог говорит о движении как о феномене, охватывающем начальную точку А и конечную точку В (АВ), то он подразумевает при этом отсутствие предмета движения; в данном случае, предмет движения — объект в точке А — изначально не дан как присутствующий, статичный и имеющий свое местоположение. Движущийся объект схватывается в движении в той мере, в которой оно существует. Психолог, без сомнения, допускает, что в каждом движении существует если не объект в движении, то, по крайней мере, движущаяся сущность, при условии, что эта движущаяся сущность не смешивается с какими-либо статичными фигурами, которые могут быть извлечены за счет остановки движения в любой точке ее пути. Логик же не обращается к переживанию движения, не зависимому от предполагаемого понятия о мире. Он говорит только о движении в себе и выражает проблему движения с точки зрения бытия, что делает ее, в конечном счете, неразрешимой. По мнению психолога, если мы обращаем внимание на различные явления движения в различных точках пути, то они будут явлениями одного и того же движения только в том случае, если они — явления одного и того же объекта в движении, чего-то такого, что проявляется через них. Однако движущийся объект нуждается в отдельном установлении только в том случае, если его явления в различных точках начинают выступать как дискретные перспективы. Логик знает, в принципе, только устанавливающее (тетическое) сознание, и этот постулат, это предположение о всецело детерминированном мире и чистом бытии запутывает его концепцию многообразия, а следовательно, концепцию синтеза. Движущийся объект, или скорее, как мы говорили, движущаяся сущность не идентична проходимым фазам движения, а идентична в них. Это возможно потому, что я воспринимаю движущийся объект как идентичный в течение движения, где идентичность является внутренней, и, если я намерен извлечь объект и оставить его при себе, ее остается только описать. Мы не обнаружим в камне-в-движении всего того, что знаем о нем другими способами. Если то, что я воспринимаю, является кругом, то все его диаметры, как утверждает логик, равны. На этом основании мы должны равным образом включить в этот воспринимаемый круг все многообразие свойств, которые геометр в состоянии открыть и будет способен в дальнейшем открывать в нем. В таком контексте круг представляет собой вещь в мире, обладающую, одновременно и в себе, всеми свойствами, которые анализ способен в ней открыть. Еще до существования Евклида круглый ствол деревьев уже обладал теми свойствами, которые в нем были им открыты. Однако в феномене круга, как он представлялся грекам до Евклида, квадрат тангенса не был равен произведению хорды и ее внешней части, то есть квадрат и произведение не были явлены в феномене с той же необходимостью, как равенство радиусов. Движущийся объект, как объект неопределенного ряда ясных и гармоничных восприятии, имеет свойства, а движущаяся сущность имеет только стиль. Так же, как для воспринимаемого круга невозможно иметь неравные диаметры, так же и движение не могло бы существовать без какой-либо движущейся сущности. Однако несмотря на это, воспринимаемый круг не имеет равных диаметров, поскольку он не имеет их вообще; он представляется мне, узнается и отличается мной от любой другой фигуры своими круглыми очертаниями, а не какими-либо из присущих ему “свойств”, которые устанавливающая (тетическая) мысль может затем открыть в нем. Сходным образом движение не обязательно предполагает движущийся предмет, то есть объект, определенный с точки зрения существенных свойств; важно то, что движение должно включать “нечто движущееся”, “каким-то образом окрашенное” или “освещенное”, без какого-либо действительного цвета или освещения. Логик исключает этот средний термин; радиусы круга должны быть либо равными, либо неравными, движение должно либо иметь, либо не иметь движущееся тело. Но он поступает так только тогда, когда рассматривает круг как вещь или когда рассматривает движение в себе. Теперь мы видим, что подобное понимание делает движение невозможным. Логику даже не пришлось бы размышлять о явлении движения, если бы не существовало движение, которое предшествует объективному миру, выступающему источником всех наших утверждений о движении, если бы не существовал феномен, предшествующий бытию, который опознается, идентифицируется, обсуждается, словом, феномен — имеющий значение даже в том случае, если он еще не тематизирован[46]. Именно к этому феноменальному слою возвращает нас психолог. Мы не говорим, что он иррационален или алогичен. Это было бы так только в том случае, если бы наличие движения постулировалось при отсутствии объекта в движении. Только явный отказ от движущегося объекта противоречил бы принципу исключенного третьего. Мы просто должны сказать, что феноменальный слой буквально дологичен и всегда остается таковым. Наш образ мира только частично состоит из действительного бытия, и мы должны найти в нем место для феноменальной области, окружающей бытие со всех сторон. Мы не требуем от логика того, чтобы он рассматривал те переживания, которые в свете рассудка являются бессмысленными или противоречивыми, мы просто хотим подтолкнуть его к границам, заданным нам чувственностью, и установить узкую зону тематического значения в рамках охватывающей ее области нетематического значения. Тематизация движения, основанная на представлении об идентичном объекте в движении и на представлении об относительности движения, уничтожает само движение. Если же мы собираемся рассмотреть феномен движения всерьез, то необходимо рассмотреть такой мир, который состоит не только из вещей, но содержит также чистые переходы. В переходе, который мы признали необходимым для конструирования изменения, что-то должно быть определено только с точки зрения особенного способа его “прохождения”. Например, птица, пролетающая через сад, в течение полета является просто движущимся серым пятном; мы должны, вообще говоря, увидеть, что вещи изначально определяются не с точки зрения их статических свойств, а с точки зрения их “поведения”. Не я узнаю в каждом проходящем моменте и точке ту же самую птицу, определенную явными характеристиками, а сама птица в полете конструирует единство своего движения и меняет свое место; колебание ее перьев, начинаясь и сохраняясь в одном месте, уже присутствует в другом, подобно комете со своим хвостом. Дообъективное бытие, нетематизированная движущаяся сущность только ставит проблему предполагаемого пространства и времени, которую мы обсуждали ранее. Уже говорилось, что части пространства, видимые как ширина, высота и глубина, не противопоставлены, но сосуществуют, поскольку они в совокупности очерчивают те границы, которые наше тело распространяет на мир. Мы уже объясняли это отношение, когда показывали, что оно прежде всего временно, а не пространственно. Вещи сосуществуют в пространстве в той мере, в которой они присутствуют для того же самого воспринимающего субъекта и вовлечены в одну и ту же временную волну. Однако целостность и индивидуальность каждой временной волны возможны только в том случае, если она вклинивается между предшествующей и последующей волнами и если временная пульсация, ее производящая, все еще сохраняет предшествующую волну и предвосхищает последующую. Именно объективное время состоит из последовательных моментов. Живое настоящее содержит прошлое и будущее в своей толще. Феномен движения также демонстрирует пространственно-временные импликации, только необычным образом. Мы знаем о движении и о движущемся предмете, не осознавая объективные позиции, точно таким же образом, каким без всякой интерпретации знаем объект на расстоянии и его действительные размеры, точно так же как, не прибегая к воспоминаниям, знаем каждый момент и место события в толще нашего прошлого. Движение — это вариация уже знакомого расположения, и оно вновь возвращает нас к центральной проблеме, касающейся того, каким образом это расположение, образующее фон для каждого акта сознания, начинает конституироваться[47]. Полагание идентичного движущегося объекта приводило к тезису об относительности движения. Теперь же, когда мы вновь ввели движение в объект в движении, допускается единственная интерпретация: движение начинается только в движущемся объекте, а оттуда распространяется в поле. Я не в состоянии заставить себя видеть камень неподвижным, а сад и себя самого — в движении. Движение не является гипотезой, вероятность которой, как в физической теории, измеряется числом фактов, соотносимых с ней. В этом случае мы имели бы дело только с возможным движением, в то время как движение фактично. Воспринимается не камень, который движется, мы видим само движение камня. Это действительно так, ибо, в противном случае, если бы движение, как фактическое, так и в рефлексии, сводилось бы к простому изменению связей, гипотеза “это — камень, который движется”, не имела бы иного значения и была бы неотличима от гипотезы “это — сад, который движется”. Следовательно, движение присутствует в камне. Удовлетворяется ли полностью в этом случае реализм психолога? Собираемся ли мы рассматривать движение как качество самого камня? Движение не предполагает какого-либо отношения к отчетливо воспринимаемому объекту и остается в качестве возможного движения в абсолютно однородном поле. Фактически каждый объект в движении может быть дан нам в поле. Нам необходимо основание движения в той же степени, в которой мы испытываем потребность в движущейся сущности в движении. Было бы ошибочным утверждать, что края визуального поля всегда обеспечивают объективно стабильную точку[48]. Необходимо вновь повторить, что края визуального поля не являются реальной линией. Наше визуальное поле не вырезано из объективного мира и не является фрагментом, наделенным четко очерченными краями, подобно ландшафту, обрамленному рамой окна. Мы способны видеть настолько, насколько наша власть над вещами распространяется далеко за пределы их ясной видимости. Она осуществляется даже в том случае, если вещи расположены позади нас. Достигая пределов визуального поля, мы переходим от состояния видения к состоянию не-видения. Граммофон, играющий в соседней комнате и невидимый мною, все-таки находится в моем визуальном поле. И наоборот, то, что мы видим, всегда в определенном отношении не видимо. Если существует восприятие, то должны быть и скрытые стороны вещей; если мы можем быть “перед” вещами и должны быть вещи “впереди нас”, то должны быть вещи и “позади нас”. Границы визуального поля не являются объективным контуром, а представляют собой необходимую стадию в организации мира. Но тем не менее объект действительно пересекает наше визуальное поле и изменяет в нем свое место. Только при этом условии движение получает свое подлинное значение. В соответствии с тем, какое значение мы придаем определенной части поля, значение фигуры или фона, она является нам, соответственно, движущейся или находящейся в состоянии покоя. Если мы находимся на корабле, который плывет вдоль берега, то, как верно заметил Лейбниц, мы можем наблюдать берег проплывающим перед нами, или рассматривать его как фиксированную точку и чувствовать движение лодки. Оправдана ли в этом случае позиция логика? Отнюдь нет. Утверждение, что движение является структурным феноменом, вовсе не тождественно утверждению о том, что это движение “относительно”. Эта удивительная связь, образующая движение, не осуществляется между объектами. Когда подобную связь прослеживает психолог, он описывает ее лучше, чем логик. Если мы фиксируем наш взгляд на перилах, то видим ускользающий берег, если же мы смотрим на берег, то фиксируем движение лодки. Из двух точек света, видимых в темноте, одна является статичной, в то время как другая движется, и движется именно та, на которую мы смотрим[49]. В том случае, если мы обращаем наш взор на облако и реку, то облако будет проплывать над шпилем башни, а река будет протекать под мостом. Если же мы фиксируем наш взгляд на шпиле или мосте, то нам будет казаться, будто шпиль рассекает облако, а мост скользит по неподвижной реке. Способ, с помощью которого мы устанавливаем наши отношения с полем посредством акта видения, суть то, что заставляет часть поля считать то объектом в движении, то фоном. Камень летит по воздуху. Не означает ли это то, что наш взгляд, сконцентрированный на саде, становится захваченным камнем и затем уже концентрируется на нем? Наше тело пропускает через себя отношение между движущимся объектом и его фоном. Каким же образом понимать это телесное посредничество? Каким образом отношение объектов к телу может дифференцироваться как движение или покой? Разве наше тело не является объектом и разве оно само не должно быть определено в отношении покоя и движения? Часто утверждают, что при движении глаз объекты остаются статичными, поскольку мы принимаем в расчет их смещение и в результате этого, по преимуществу, делаем вывод о неподвижности объекта на основании того, что обнаруживаем смещение строго пропорциональным изменению явлений. Когда при парезисе глазно-моторных мускулов возникает иллюзия движения глаз, причем какое-либо действительное изменение отношений между объектом и глазом отсутствует, нам кажется, что мы видим движение объекта. Первоначально возникает ощущение, будто отношение объекта, запечатленного на сетчатке, к нашему глазу дано в сознании. Состояние покоя или степень движения объектов устанавливаются посредством процесса корректирования, когда мы принимаем в расчет движение или неподвижность наших глаз. Фактически подобный анализ полностью искусствен и как таковой скрывает действительное отношение между нашим телом и зрительным полем. Когда я перевожу взгляд с одного объекта на другой, я не осознаю свой глаз как объект, подобный шарику, укрепленному в орбите. Я не осознаю его движения и состояние покоя в объективном пространстве. Точно так же я не осознаю того, что появляется на сетчатке. То, что принимается в расчет в данном случае, не дано мне. Неподвижность вещей абсолютно одновременна с актом видения, а не вытекает из него. Эти два феномена вовлечены друг в друга; мы не имеем дело с двумя терминами алгебраического выражения, а имеем дело с двумя моментами организации, охватывающей их. Для меня мой глаз — определенная способность, устанавливающая контакт с вещами, а — не экран, на котором они отображаются. Отношение глаза к объекту не дано мне в виде геометрической проекции объекта на глаз. Оно как бы удерживает мой глаз на объекте, неразличимом на границе видения, но который в тот момент, когда я фокусируюсь на нем, становится все более и более определенным. Когда мой глаз движется пассивно, я утрачиваю не объективное представление о его сдвиге в орбите, которое в любом случае на дано мне, — я теряю приспособленность своего взгляда к объектам, без которой их нельзя зафиксировать или рассматривать в действительном, подлинном движении. Вот почему, надавливая на свое глазное яблоко, я не воспринимаю истинного движения; сами вещи остаются неподвижными, движется только изображение их поверхности. Короче говоря, при парезисе глазно-моторных мускулов я не в состоянии объяснить постоянство образа на сетчатке с точки зрения движения, относящегося к объектам. Однако я не испытываю ослабления фиксации своего взгляда; двигаясь, он, как и прежде, переводит и перемещает объект. Таким образом, сам глаз никогда не участвует в восприятии объекта. То, что мы намереваемся сказать о движении без объекта в движении, тем более относится к нашему собственному телу. Движение моего глаза в направлении вещи, на которой он сфокусировался, не изменяет место одного объекта по отношению к другому; оно увеличивает его реальность. Мой глаз находится в состоянии движения или покоя в отношении вещи, к которой он стремится или от которой удаляется. В той мере, в которой тело обеспечивает восприятие движения и его основания, оно выступает как способность этого восприятия, укорененная в определенной области и приспособленная к миру. Состояния покоя или движения проявляются среди тех объектов, которые сами по себе не определены ни в отношении чего-либо, ни в отношении моего тела как объекта. Это относится и к тем случаям, когда мое тело укореняется в определенных объектах. Подобно верху и низу, феномен движения связан с различными уровнями, и каждым движением предполагается определенное, отличающее его от других движений укоренение. Не совсем ясно выражаясь по поводу относительности движения, мы, как в других подобных случаях, вынуждены задать вопрос: что же, в строгом смысле, представляет собой укоренение и каким образом оно конституирует основание покоя? Оно не является эксплицитным восприятием, а точки укоренения в тот момент, когда мы фокусируемся на них, не являются объектами. Шпиль башни начинает двигаться только тогда, когда я устраняю небо за границы своего видения. Для установленных, фиксированных точек, лежащих в основании движения, существенно не то, что они должны полагаться в имеющемся знании, а то, что они всегда должны быть "уже там". Они не направлены на восприятие, а окружают его, включаясь на досознательном уровне, и в результате воздействуют на нас, как уже готовые. Случаи двойственного восприятия, в которых мы можем выбирать между различными способами укоренения, — это случаи, в которых наше восприятие искусственно порывает со своим контекстом и своим прошлым, это — случаи, где мы не воспринимаем собственное бытие как целостность, а играем с нашим телом и с всеобщностью, включающей его, что дает нам возможность порвать с любым историческим обязательством и функционировать самим по себе. Однако несмотря на возможность разрыва с человеческим миром, существуя, мы продолжаем оставаться зависимыми если не от человеческой среды, то от среды физической. Мы не можем оказать помощь глазам в тот момент, когда они фокусируются, так как восприятие не является произвольным в отношении любого фокуса, заданного взгляду. Однако восприятие сковано меньше, если жизнь тела интегрирована в наше конкретное существование. Я могу видеть собственное движение, независимо от того, иллюзорно оно или действительно. “Играя в карты в купе, я вижу, как удаляется соседний поезд, хотя в действительности с места тронулся мой. Наблюдая за соседним поездом и пытаясь установить, кто же находится в движении, я начинаю понимать, что движется мой поезд”[50]. Занимаемое нами купе “покоится”, его стены “вертикальны”, а ландшафт меняется на глазах; возникает ощущение, что ели, видимые в окно, скользят по склону холма. Выглядывая в окно, мы входим в большой мир, преодолевая пределы нашего маленького мира; ели самостоятельно выстраиваются в ряд и становятся неподвижными, поезд спускается с холма и устремляется в сельскую местность. Относительность движения заключается в способности изменить наше окружение в рамках большого мира. Только тогда, когда окружающая среда вовлекает нас, мы видим движение, которое проявляется как абсолютное. Мы можем говорить о том, что психологи называют абсолютным движением, не впадая при этом в противоречия реализма, и понять феномен движения, не позволяя логике разрушить его, только при том условии, что помимо актов эксплицитного знания (cogitationes) мы допускаем скрытые акты, идущие из прошлого, с помощью которых мир был дан, только при условии, что мы обладаем не-тетическим сознанием. До сих пор мы рассматривали восприятие пространства только так, как это принято в традиционной философии и психологии, а именно как знание пространственных отношений между объектами, а также их геометрических характеристик, то есть как знание, достижимое любым незаинтересованным субъектом. Однако даже при анализе подобной абстрактной функции, далекой от того, чтобы охватить целостность нашего переживания пространства, мы пришли к осознанию пространственности в качестве условия, устанавливающего субъекта в окружающей обстановке и вовлекающего его в мир. Другими словами, мы приложили усилия, чтобы понять, что пространственное восприятие является структурным феноменом и схватывается только в рамках перцептуального поля, которое, в своей всеобщности, мотивирует пространственное восприятие, предполагая субъекту возможное укоренение. Однако традиционная проблема восприятия вообще и восприятия пространства в частности должна быть вновь включена в более широкий контекст. Задавая вопрос о том, как это возможно в эксплицитном акте, определяющем пространственные отношения и объекты с их “свойствами”, мы хотим знать, что представляет из себя первичный акт, который проявляется только на фоне чувственного мира, допуская при этом, что этот акт не есть осознанное переживание мира, а следовательно, выходим на уровень второго порядка. В естественной установке я не обладаю восприятиями и не устанавливаю один объект рядом с другим в соответствии с их объективными взаимоотношениями; я обладаю потоком переживаний, которые как одновременно, так и последовательно взаимообусловливают и объясняют друг друга. По отношению ко мне Париж — не объект, состоящий из множества частей, не совокупность восприятии и не закон, который управляет всеми соответствующими восприятиями. Эмоциональные состояния личности проявляются с помощью жестикуляции рук, специфической походки и изменения голоса. Восприятие, сопровождающее мое путешествие по Парижу, также выражается всеми имеющимися средствами: кафе, лицами людей, тополями вдоль набережной, изгибами берегов Сены. Все это существует на фоне целостного бытия города и указывает на существование определенного стиля или значения, которым обладает Париж. Когда я первый раз приехал в этот город и вышел на станции, то впечатления от впервые увиденных улиц были подобны первым словам, услышанным от иностранца. Эти впечатления указывали на сущность, которая, оставаясь неясной, была все же уже непохожа на любую другую. Мы специально не обращаем внимания на глаза как на физическое явление, когда видим знакомое лицо, а заинтересованы только их выражением и особенностями взгляда; это же распространяется на любой воспринимаемый объект. По ландшафту и городу “размазано” скрытое значение, не определяемое нашими чувствами, но которое мы способны обнаружить в чем-то специфическом и самоочевидном. Только неясные восприятия возникают как эксплицитные акты, то есть такие восприятия, которым мы сами придаем значение с помощью установки, которой обладаем, и которые являются ответом на возникающие перед нами вопросы. Эти восприятия не могут быть использованы при анализе перцептуального поля, пока они изначально не извлечены из него, пока они не выступают в качестве его основания и пока мы не приходим к ним, в точности используя их совокупность, с которой мы встретились, имея дело с миром. Изначальное восприятие, независимое от какого-либо основания, не может быть воспринято. Каждое восприятие предполагает в отношении воспринимающего субъекта определенное прошлое, и абстрактная функция восприятия, соединяющая объекты, вовлекает в свою орбиту гораздо больше таинственных актов, которые задействованы в нашем освоении окружающей среды. Под воздействием мескалина объекты, которые необходимо достичь, выглядят как имеющие гораздо меньшие размеры, чем есть на самом деле. Нога или какая-либо другая часть тела, например рука, рот, язык, кажутся огромными, а остальное тело ощущается как придаток к данной гипертрофированной части[51]. Стены комнаты кажутся удаленными на 150 метров, а позади них простирается пустота. Поднятая рука кажется такой же высокой, как стена. Внешнее пространство и телесное пространство разъединены в том смысле, что субъект ощущает, что “один размер съедается другим”[52]. В некоторых ситуациях, когда движение не может быть отслежено, а человеку кажется, что он каким-то волшебным образом перемещается из одного места в другое[53], субъект ощущает свое одиночество и заброшенность в пустом пространстве. “Он жалуется на то, что все, что он может увидеть, — только лишь пустое пространство между вещами. Объекты в какой-то степени еще здесь, но совершенно непривычным образом...”[54] Человек напоминает марионетку, он выполняет свои движения как во сне, слишком замедленно. Листья на деревьях теряют свою индивидуальную структуру; каждая точка на листе имеет то же самое значение, как и любая другая[55]. Приведем высказывание одного шизофреника: “В саду щебечет птичка. Я ее слышу и знаю, что она щебечет. Но мне кажется, что птичка и ее щебетание — две вещи, слабо связанные друг с другом. Существует пропасть между ними, как будто бы птичка и ее щебетание не имеют ничего общего друг с другом”[56]. У другого шизофреника отсутствует “понимание” часов, то есть переход стрелок из одной позиции в другую. Он не может связать это движение с ходом механизма, с “работой” часов[57]. Однако эти нарушения не воздействуют на восприятие как способ познания мира. Увеличенные части тела, уменьшенные до предела объекты не устанавливаются и не утверждаются в качестве таковых. Для больного стены комнаты удалены друг от друга отнюдь не тем же образом, каким края футбольного поля удалены друг от друга в восприятии психически здорового человека. Субъект отлично понимает, когда касается ног рукой, что его ноги и его собственное тело остаются в том же самом пространстве. Несмотря на то, что пространство — “пусто”, все объекты восприятия находятся именно “здесь”. Указанные нарушения не предоставляют информации, которая может быть извлечена из восприятия, а открывают под “восприятием” более глубинную жизнь сознания. Даже в той ситуации, когда существует ошибка восприятия, как в случае с движением, который мы рассматривали, перцептуальная ущербность проявляется только лишь как экстремальный случай более общего нарушения процесса взаимоотношения феноменов друг с другом. Существует птица, и существует щебет, но птица больше не щебечет. Существует движение часовых стрелок, и существует часовая пружина, но часы больше не “идут”. Подобным образом определенные части тела становятся гипертрофированными, а смежные с ними объекты, наоборот, уменьшаются в размере, поскольку отсутствует системообразующая целостность картины. Таким образом, если мир распадается на части или изменяет свое местоположение, то это происходит потому, что чье-либо тело перестает быть познающим телом и перестает связывать все объекты в единстве собственного горизонта видения. Эта утрата телом своих основании в организме должна быть соотнесена с разрушением времени, которое, замыкаясь в себе, теряет свою направленность в будущее. Шизофреник сетует: “Когда-то я был человеком, обладающим живым телом и душой, а теперь я ощущаю себя каким-то непонятным существом... Теперь у меня остался только организм, а душа моя мертва... Я что-то слышу и вижу, но ничего больше не знаю, и сама жизнь теперь становится для меня проблемой... Я теперь пребываю в вечности... На деревьях качаются ветки, какие-то посторонние люди входят в комнату, но для меня время остановилось... С моей мыслью произошли какие-то изменения, утрачена ее стилистика... Что же есть будущее? Ведь оно не достижимо... Все размыто... Все монотонно: утро, день, вечер, прошлое, настоящее, будущее. Все неизменно повторяется снова и снова”[58]. Восприятие пространства не является каким-то обособленным классом среди “состояний сознания” или его актов. Его модальности всегда являются выражениями целостной жизни субъекта и выражениями энергии, за счет которой он направлен в будущее, опосредованный своим телом и своим миром[59]. Итак, мы приходим к заключительному этапу нашего исследования. Переживание пространственности непосредственно связано с нашим вживанием в мир. Для каждой модальности этого вживания всегда должна существовать изначальная пространственность. Например, когда мир ясных и артикулированных объектов упраздняется, наше перцептуальное бытие порывает со своим миром и развертывает пространственность в отсутствие вещей. Именно это и происходит ночью. Ночь не является объектом нашего представления. Я окутан ею, и она пронизывает все мои чувства, притупляя воспоминания и разрушая мою личностную идентичность. Я больше не прибегаю к помощи перцептуального вглядывания, посредством которого видны очертания объектов, движущихся на расстоянии. Ночь не имеет очертаний, она вступает со мной в контакт, а ее единство хранит в себе тайну. Ночные крики и даже освещенный человек вдалеке отчетливо не различимы, несмотря на то, что впоследствии они предстанут во всей своей целостности. В данном случае мы фиксируем чистую глубину, глубину — в отсутствие переднего и заднего фона, без поверхностей и без какого-либо расстояния, отделяющего их от меня[60]. Пространство в целом удерживается в рефлексии мышлением, объединяющим его части друг с другом. Тем не менее мышление в этом случае не возникает из ничего. Наоборот, его источник — в сердцевине ночного пространства, с которым я нахожусь в единстве. Усталость, которую чувствует ночью психопат, обусловлена тем фактом, что именно ночь заставляет нас понять свою случайность, беспочвенность. Ночь дает постоянный импульс, заставляющий нас стремиться к ощущению собственной укорененности и утрате себя в вещах при отсутствии какой-либо гарантии их обнаружения. Однако помимо ночных переживаний существует еще более сильное переживание нереальности своего состояния. Когда я ночью иду наощупь по комнате, во мне сохраняется общее впечатление от окружения, полученное в дневное время. Во всяком случае, ночь включена в общую структуру природы, и всегда остается нечто гарантированное и известное даже в этом беспросветном черном пространстве. С другой стороны, во сне я сохраняю мир как представление только для того, чтобы поддерживать дистанцию, отделяющую его от меня, и возвращаюсь к субъективным источникам своего существования. Фантазмы сновидений еще более явно открывают ту тотальную пространственность, в рамках которой запечатлевается явное пространство и наблюдаемые объекты. Обратимся, например, к теме взлета и падения, постоянно встречающейся как в снах, так и в мифологии и в поэзии. Хорошо известно, что появление этих тем в сновидениях может быть обусловлено соответствующим состоянием дыхания или сексуальными желаниями. Это — первый шаг к тому, чтобы придать жизненное, сексуальное значение верху и низу. Однако эти объяснения ничего не дают для понимания переживаний взлетов и падений в состоянии сна, поскольку при пробуждении эти переживания не обнаруживаются в видимом пространстве, а ассоциируются с желанием и дыханием. Мы должны понять, почему в данном случае спящий наполняет физиологические факты дыхания и желания наряду с общим и символическим значением, когда видит их во сне только в образной форме — например, в образе огромной, парящей птицы, взмахивающей крыльями, затем падающей и в результате превращающейся в кучку пепла. Необходимо понять, каким образом дыхательные и сексуальные события, происходящие в состоянии сна в объективном пространстве, извлекаются из него и помещаются в иную, отличную ситуацию. Но мы никогда не достигнем понимания, если не наделим тело символическим значением, присутствующим даже в состоянии бодрствования. Соотношение наших эмоции, желании и телесных установок не определяется только лишь совокупностью связей и тем более отношениями по аналогии. Если я утверждаю, что нахожусь в подавленном состоянии, когда испытываю чувство разочарования, то мое утверждение обусловлено не только тем, что телесные действия, сопровождающие данное переживание и указывающие на упадок сил, соответствуют принципам, управляющим нервными механизмами; точно так же это утверждение зависит не только от того, что я открыл между объектами моего желания и самим желанием отношения, подобные отношениям, существующим между расположенным надо мной объектом и жестом моей руки, направленным на него. Между совершающимся в физическом пространстве движением, направленным вверх, и движением желания, обеспечивающим объективную основу этому направлению, возникает символическое взаимодействие, поскольку и то и другое движение выражает одну и ту же сущностную структуру нашего бытия, то есть бытия, характеризующего отношение к окружающей среде, по поводу которого уже установлено, что сама его структура, как таковая задает значение направлениям “верх” и “низ” в физическом мире. Размышляя о высокой или низменной морали, мы не распространяем на область идеального отношение, полное значение которого может быть найдено только в физическом мире. Мы используем значения направлений, которые, образно говоря, пробегают различные регионы и получают частные значения (пространственные, слуховые, духовные, ментальные и т. д.)[61], используя значения друг друга. Фантазмы сновидений и мифологии, наиболее полюбившиеся образы или подлинно поэтическое воображение не определяются в своих значениях отношением знака и обозначаемого, подобного отношению, существующему между телефонным номером и именем абонента; действительно, они содержат в себе такое значение, которое не является понятийным, но направляет наше существование. Когда я во сне испытываю состояния полета или падения, то целостное значение сновидения определяется ими в той мере, в которой эти состояния не отождествляются мной с их физическим проявлениям в момент бодрствования. Я непременно должен принять во внимание все экзистенциальные следствия этих состояний. Птица, парящая над землей, падающая и превращающаяся в кучку пепла, не совершает этих действий в физическом пространстве; в момент взлета и падения она захвачена экзистенциальным приливом, который она проницает. Она совпадает с пульсацией моего существования, она — его систола и диастола. Уровень этого прилива, в каждый момент времени, определяет пространство, населенное фантазмами, точно так же, как в состоянии бодрствования наше столкновение с миром обусловливает пространство, населенное реальной предметностью. Существует определение “верха”, “низа” и вообще места, которое предшествует “восприятию”. Жизненные и сексуальные порывы зачастую проявляются в своем собственном мире и пространстве. Примитивные народы, пребывая в мифологическом мире, не покидают этого экзистенциального пространства. Именно по этой причине сновидения имеют для них столь же большое значение, как и реальные восприятия. Мы можем говорить о существовании мифологического пространства, в котором направления и позиции определены местопребыванием в его аффективном бытийствовании. Для примитивного человека знание местонахождения родовой стоянки не связано с ее локализацией по отношению к определенному объекту, который бы служил для нее указателем, поскольку она сама выполняет ориентирующую функцию, являясь знаком всех знаков. Все наше познание устремлено к стоянке как естественному месту, находясь в котором, мы испытываем состояния определенного покоя или удовлетворения. Точно таким же образом я обладаю знанием о местонахождении своей руки, когда объединяю ее с двигательной силой, бездействующей в определенный момент времени, но которой я способен воспользоваться и заново открыть как свою собственную. Для прорицателя правое и левое являются воплощениями закона и запрета, точно так же как для меня правая рука и левая являются соответственно воплощениями моей ловкости и моей неуклюжести. И в сновидении, и в мифе с помощью направленного чувства, вызванного желанием, которое пугает наши сердца и от которого зависит наша жизнь, мы узнаем где должен быть найден феномен. Даже в состоянии бодрствования вещи зависят друг от друга. Проводя свои выходные в деревне, я счастлив забыть о работе и отрешиться от повседневных проблем; я обустраиваюсь, и деревня становится эпицентром моей жизни. Падение уровня воды в реке, сбор урожая кукурузы и орехов становятся моими собственными событиями. Однако когда друзья приезжают в деревню, чтобы увидеться со мной и сообщить парижские новости, или если радио и пресса говорят об угрозе войны, я чувствую, что мое положение напоминает положение изгнанника, исключенного из реальной жизни и отторгнутого от мировых событий. Наше тело и наше восприятие всегда призывают рассматривать как центр мира именно ту окружающую среду, которая образует их фон. Однако окружающая среда не является необходимой для нашей собственной жизни. Я могу быть “где-то еще” в тот момент, когда нахожусь здесь, могу быть вдалеке от того, что люблю, и чувствовать себя вне какого-либо столкновения с реальным миром. Состояние мадам Бовари, особые формы ностальгии могут служить примерами децентрированной жизни. С другой стороны, маньяк центрирован всегда, где бы он ни находился; “его ментальное пространство акцентуировано и высвечено, а мышление, чувствительное в отношении всех объектов представления, разбросано и зацикливается на их перестановке”[62]. Кроме того, физическое и геометрическое расстояние, устанавливаемое между мной и всеми вещами, определяется “жизненным” расстоянием, связывающим вещи друг с другом и привязывающим меня к вещам, которые, существуя для меня, поддаются моему учету. В каждый момент времени это расстояние измеряется всем “кругозором” моей жизни[63]. Иногда между мной и событиями происходит особая игра, гарантирующая сохранение моей свободы на протяжении того времени, пока я остаюсь вовлеченным в события. С другой стороны, жизненное расстояние — одновременно и минимально, и максимально. Большинство событий перестает рассматриваться мной в тот момент, когда я захвачен событиями, имеющими место в непосредственной близости. Словно ночь, они окутывают меня, похищая мою индивидуальность и свободу. Я в буквальном смысле задыхаюсь и чувствую, что мною завладели[64]. События мгновенно сгущаются. Больной чувствует леденящий порыв ветра, запах каштана и прохладу, вызванную дождем. Возможно, он скажет: “В это же время существует человек, который, гуляя под дождем и проходя мимо ларька, в котором жарятся каштаны, испытывает те же ощущения, что и я”[65]. Шизофреник, находящийся под наблюдением Минковского и деревенской сиделки, подозревает их в том, что они встречаются для того, чтобы обсуждать его поведение[66]. Старая шизофреничка думает, что некто, напоминающий ей кого-то другого, знает ее[67]. Сужение жизненного пространства больного не оставляет ему какого-либо резерва и возможности выбора. Подобно пространству, причинность, предшествующая отношениям между объектами, основана на моем отношении к вещам. Сокращение причинно-следственного ряда в состоянии бреда[68] выражает способы существования в той же степени, как и длинные последовательности причинно-следственных связей, устанавливаемые методическим мышлением[69]. “Переживание пространства тесно переплетается со всеми другими модусами существования и со всеми иными психическими данными”[70]. Чистое пространство — это пространство, не имеющее частей, в котором все объекты равнозначны и имеют равные права на существование, не только охватывается, но также и пропитывается другой пространственностью, подменяющей ее в ситуациях, связанными с болезненными отклонениями. Больной шизофренией, пораженный горным ландшафтом, через короткий промежуток времени начинает чувствовать исходящую от него угрозу. Несмотря на то, что особый интерес ко всему окружающему вырастает у него изнутри, он испытывает ощущение того, что проблема, на которую он не может отыскать ответа, была привнесена со стороны. Возникает такое впечатление, что будто бы какая-то чуждая сила похищает у него этот ландшафт, как если бы черное, безграничное небо заполнило голубизну вечернего неба. Это новое небо — пусто, “неуловимо, невидимо и наводит страх”. Оно проникает в осенний ландшафт, а иногда сам ландшафт движется в его сторону. По свидетельству больного, “переживание проблемы не прекращается с течением времени, оно либо затухает, намереваясь исчезнуть, либо нарастает с новой силой”[71]. Именно это второе пространство, рассекающее видимое пространство, непрерывно обусловливает наш собственный способ проектирования мира, а сомнения шизофреника фактически просто связаны с тем, что непрерывное проектирование начинает отделяться от объективного мира в той мере, в которой он присутствует в восприятии. Шизофреник больше не существует в мировой целостности, а живет в своем индивидуальном мире, уже больше не совпадающем с географическим пространством. Он пребывает в “пространстве ландшафта”[72], а ландшафт сам по себе, непосредственно извлеченный из мировой целостности, выглядит обездоленным. Подводя итоги, можно сказать, что шизофреническое вопрошание проявляется в следующем: все поражает, выглядит абсурдным и нереальным, поскольку кажется случайным и поскольку мир более не гарантирован. Естественное же пространство, о котором говорит традиционная психология, наоборот, успокаивает и является самоочевидным; это происходит потому, что существование, нацеленное на него, впитывается в него, не осознавая себя. Человеческое пространство может описываться бесконечно[73]. В связи с тем, что в этом описании всегда будут проявляться недостатки, обусловленные объективирующим мышлением, то будет ли оно в таком случае иметь какое-либо философское значение? Указывают ли эти недостатки на то, что относится к структуре самого сознания, или же они просто даны нам в содержании человеческого опыта? Не являются ли различные пространства неотъемлемой частью сновидений, мифов или шизофренических состояний? Могут ли они существовать и мыслиться сами по себе, больше не предполагая, как условие возможности, геометрическое пространство, а заодно и чистое конституирующее сознание, развертывающее его? Левая сторона, которая в примитивном сознании ассоциируется с неудачей и симптомами болезней и которая, в отношении моего собственного тела, ассоциируется с неловкостью, приобретает специфическое значение направления только в том случае, если я с самого начала способен воспринимать ее в соотношении с правой стороной. Это соотношение, устанавливаемое между правым и левым, окончательно задает пространственное значение соответствующим терминам. Подобное соотношение не связано ни с чувством страдания, ни с чувством удовольствия, к которым “стремится” примитивный человек, находящийся в определенном пространстве, также как оно не зависит от ощущения боли, которое я испытываю в поврежденной ноге. Переживание страдания, удовольствия и боли локализуется в объективном пространстве, в котором должны быть обнаружены их эмпирические условия. Динамичное сознание свободно от всякого содержания и развертывает его в пространстве. В отношении подобного сознания содержание вообще не бывает где-либо локализовано. Рассматривая мифологическое переживание пространства и выясняя при этом, только то значение, которое оно имеет само по себе, мы никогда не смогли бы понять, что это переживание опирается на осознание единственного и объективного пространства, поскольку то, что не объективно и не единственно, не является пространством. Может быть, сущность пространства заключается в абсолютной “внеположенности”, которая соотносится с субъективностью, одновременно отрицая ее? Должна ли эта сущность охватывать любое воображаемое бытие? Можно ли сказать, что если мы намереваемся установить нечто вне ее, то, уже самим этим фактом это нечто вступает с ней в отношение и, следовательно, полагается в ней? Когда спящему снится сон, дыхательные движения и сексуальные стимулы не учитываются, эти действия освобождаются от оков, которые связывают их с миром, и протекают в виде сновидений. А что же он в действительности видит? Обязаны ли мы верить его объяснениям? Если бы он осознавал то, что видит, и понимал свое сновидение, он бы проснулся; сексуальность в тот же момент нормализовалась, а чувство беспокойства, сопровождаемое соответствующими фантомами, вызванными затруднением дыхания, возросло бы в значительно большей степени, чем обычно. Претензии таинственного пространства, вторгнувшегося в мир шизофреника, на то, чтобы быть пространством, не обоснованы, так как оно не связано с чистым пространством. Если больной настаивает на том, что это таинственное пространство существует и действительно его окружает, мы должны задать ему вопрос о том, “где” оно находится. В попытках локализовать этот фантом, больной будет от него избавляться. Допуская, что объекты постоянно присутствуют, больной, наряду с чистым пространством, использует такие средства, которые изгоняют призраки и обеспечивают возврат к повседневному миру. Точно так же, при попытке обосновать геометрическое пространство, включая его внутримировые отношения, с использованием изначальной пространственности, пространственности существования, игнорируется тот факт, что мысль осознает только саму себя или вещи, что пространственность субъекта не может быть воспринята. Строго говоря, подобный способ обоснования лишен какого-либо смысла. Мы попытаемся показать, что изначальная пространственность не имеет тематического или эксплицитного значения и растворяется в объективистском мышлении. Однако эта пространственность обладает не тематическим, а имплицитным значением, которое является значением не в меньшей степени, поскольку объективистское мышление само “натянуто” на дорефлексивное мышление. Это значение присутствует как эксплицитное выражение дорефлексивного сознания таким образом, что даже радикальная рефлексия не может его тематизировать и рассматривать в качестве сущности, подобной миру или пространству, которые установлены параллельно мыслящему о них не-темпоральному субъекту. Мы должны возвратиться к тематизирующему акту и рассмотреть его совместно с принадлежащими ему горизонтами, задающими его значение. Если рефлексия заключается в непосредственном поиске некоторого фиксированного или осмысленного состояния, она не может ограничивать себя внутри сферы объективирующего мышления, а должна исследовать те тематические акты, которые определяют объективирующую мысль, восстанавливая ее контекст. Иными словами, объективирующая мысль отвергает феномены, сопровождающие сновидения, мифы и существование вообще, поскольку она демонстрирует свою полную неспособность ясно мыслить о них. Для такого типа мышления значением обладают лишь такие феномены, которые могут быть тематизированы. При таком подходе отвергается факт или реальность, если они не отвечают принципам возможности и самоочевидности, хотя не берется в расчет то, что сама очевидность основана на факте. Аналитическая рефлексия убеждена в том, что понимает переживания человека, видящего сон, или переживания шизофреника намного лучше тех, кому они принадлежат. Кроме того, философ верит в то, что в рефлексии он более отчетливо, чем в самом восприятии, знает о содержании своего восприятия. И, находясь под давлением этих обстоятельств, он способен отвергнуть человеческое пространство как явление, затемняющее единственное и истинное объективное пространство. Однако даже в том случае, если философ осознает, что его понимание превосходит понимание человека, непосредственно находящегося в состоянии сна, понимание шизофреника или понимание, которое имеет место в момент самого восприятия, он лишается права с абсолютной истинностью настаивать на том, что понимается им как самоочевидное, поскольку сомневается или в показаниях других людей, свидетельствующих о своем опыте, или в своем собственном восприятии. Существует два способа освоения пространства, которые мы не можем одновременно использовать. Либо человек в момент переживания осознает то, что переживает, и об этом свидетельствуют его показания, как в случае с человеком, видящим сон, шизофреником или субъектом непосредственного восприятия, а мы должны просто принять то содержание восприятия, которое фактически выражается в их языке. Либо человек в момент переживания не рассуждает о его содержании, и в этом случае проверка на самоочевидность невозможна. Намереваясь выявить позитивное значение переживаний, имеющих место в сновидениях, мифах или непосредственных восприятиях, и вновь рассмотреть различные пространства в рамках геометрического пространства, мы были бы вынуждены ради осуществления подобной цели отрицать то, что люди вообще когда-либо спят, что они могут сойти с ума и что они способны иметь реальные и ясные восприятия чего-либо. В связи с тем, что нами допускается существование по крайней мере таких многообразных нерефлексивных форм, как сновидения, состояния безумия и непосредственное восприятие (да и как бы мы могли этого не допустить, если намереваемся выделить в свидетельствах сознания нечто значимое, то, без чего невозможна истина?), мы не имеем права сводить все переживания к единственному миру, а все модальности существования — к единственному сознанию. Осуществляя подобный подход, мы обязаны обратиться, как к высшему апелляционному суду, которому должны быть представлены на рассмотрение сознание восприятии и сознание иллюзий, к некоторой самости, более близкой мне, чем та самость, которую изобретает мое сновидение или восприятие тогда, когда я нахожусь в их власти, и которая обусловлена истинной субстанцией сновидения и восприятия в тот момент, когда они мне являются. Однако различие между явлением и реальностью само по себе не имеет никакого значения ни в мире мифа, ни в болезненном состоянии, ни в мире ребенка. Миф удерживает сущность в мире явлений; мифический феномен не является репрезентацией, а есть подлинное присутствие. Демон дождя присутствует в каждой капле, падающей после заклинания, подобно тому, как душа присутствует в каждой части тела. В этом случае каждое “воплощение” демона становится инкарнацией[74] и каждая сущность определяется не столько с точки зрения своих “свойств”, а скорее с точки зрения физиогномических характеристик. В случае детского или примитивного анимизма ребенок или человек, принадлежащий примитивной культуре, не могут воспринимать объекты, которые мы пытаемся, как говорит Конт, объяснить с помощью интенций или форм сознания, поскольку сознание, так же как и объект, является принадлежностью конституирующего мышления; вещи воспринимаются как инкарнация того, что они выражают, и человеческие смыслы накладываются на них, буквально присутствуя в их значении. Скользящая тень и скрипящие ветви дерева, обладая определенными значениями, представляют опасность для тех, кто является источником этих значении[75]. Если мифологическое сознание еще не обладает понятием вещи или понятием объективной истины, то как в этом случае оно может подвергнуть критической проверки то, о чем оно думает и что переживает? Где оно может найти точку опоры для того, чтобы остановиться и начать осознавать себя в качестве чистого сознания? Каким образом это сознание начнет воспринимать реальный мир, не принимая в расчет свои собственные фантазии? Шизофреник чувствует, что ветка, находящаяся за окном, начинает приближаться и в конце концов вонзается в его голову. Однако при этом он постоянно осознает то, что ветка находится “где-то там” и существует независимо от него[76]. Выглянув в окно, больной будет воспринимать ее, несмотря на свои патологические ощущения. Ветка в значении, идентифицируемом в эксплицитном восприятии, никогда не “находится” в голове больного как нечто материальное. Однако в представлении больного голова — не объект, который может видеть каждый и который он сам способен увидеть в зеркало. Голова выступает в качестве конечности, наделенной способностью слышать и видеть. Больной чувствует голову в верхней части своего тела; она — условие, которое, за счет зрения и слуха, соединяет его со всеми объектами. Подобным образом ветка, данная в ощущениях, есть только лишь оболочка или фантом. Взгляд сосредоточен на реальной ветке как твердой и колющей сущности, нашедшей свое воплощение в этих фантазиях; она выдвигается из окна, оставляя там только свою безжизненную оболочку. Поскольку больной придерживается только тех данных, которые не опровергают его переживаний, он не находится в конфликте с эксплицитным восприятием, а поэтому обращение к нему не способно вывести его из этого состояния. “Слышите ли вы то, что слышу я?” — спрашивает больная психиатра и с чувством обреченности приходит к заключению: “Только я одна слышу эти голоса”[77]. Нормальный человек защищен от галлюцинации не своими критическими способностями, а структурой своего пространства. Объекты расположены перед ним и затрагивают его, как сказал Мальбранш об Адаме, в той степени, в которой они сохраняют дистанцию по отношению к нему. Причина галлюцинаций и мифов заключена в сужении непосредственно переживаемого пространства. Укорененность вещей в нашем теле, непосредственная близость объекта, единство человека и мира, то есть то, к чему вновь пытается обратиться философское сознание, — в действительности не исчезает, но подавляется повседневным восприятием или объективным мышлением. На самом деле, если я рефлексирую по поводу осознанных позиций и направлений в мифе, сновидении и непосредственном восприятии, если я полагаю и устанавливаю их в соответствии с методами объективного мышления, я вновь обнаруживаю в них отношения геометрического пространства. Однако нельзя, основываясь на этом, утверждать, что указанные отношения могут быть обнаружены там заранее, поскольку изначальная рефлексия на это не указывает. Мы поймем значение мифологического и психопатологического пространства только тогда, когда возродим их в собственном переживании, в собственном актуальном восприятии, в таких взаимоотношениях субъекта и мира, которые не принимаются в расчет аналитической рефлексией. Необходимо осознать, что “экспрессивные переживания” лежат в основании “актов, наполняющих чувственным содержанием” теоретическое и устанавливающее мышление; они — экспрессивные значения, предшествующие знакам, и выступают, в конечном счете, в качестве символической “беременности” формы содержанием, лежащей в основании любого подведения содержания под форму[78]. Дает ли это оправдание психологизму? Поскольку количество разнообразных пространств совпадает с количеством различных пространственных переживаний, возможна ли изоляция каждого отдельного типа субъективности и в конечном счете каждого отдельного сознания в рамках нашей собственной индивидуальной жизни, если мы не предполагаем заранее, что в детском, болезненном или примитивном переживании уже присутствуют формы взрослого, нормального или цивилизованного переживания? Не подменили ли мы рационалистическое cogito, открывающее во мне универсальное, конституирующее сознание, психологическим cogito, сохраняющим свою невыразимость в рамках жизненного опыта? Разве мы не определяли субъективность как идентичность каждой личности в данном опыте? Может быть, в этом случае исследование естественного пространства и врожденного опыта в целом, предшествующего своей объективации, и стремление детально рассмотреть значение самого переживания оканчиваются, говоря языком феноменологии, вместе с отрицанием бытия и значения? Может быть, это просто видимость и мнение, скрытые под маской феномена? Не связан ли источник подобного знания со стремлением оправдать замкнутость сумасшедшего в своем безумии, и не возвратит ли нас последнее слово этой мудрости к муке бездействия и одиночеству субъективности? Эти сомнения необходимо рассеять. Мифологическое сознание, сознание сновидения, состояние безумия и непосредственное восприятие не замкнуты герметично внутри себя. Они не являются маленькими островками опыта, отрезанными друг от друга, которые невозможно покинуть. Мы отказываемся рассматривать геометрическое пространство как имманентное мифологическому пространству и вообще отказываемся подчинить целостность опыта абсолютному сознанию, которое определяло бы его место в общей структуре истины, поскольку, если единство опыта понимать подобным образом, то это не будет способствовать его разностороннему пониманию. Именно мифологическое сознание действительно открыто горизонту всех возможных объективаций. Примитивный человек живет не только своими мифами; он существует на фоне воспринимаемой и хорошо артикулированной окружающей среды, что позволяет вести активную повседневную жизнь, заниматься рыболовством и охотой, поддерживать отношения с цивилизованными людьми. Тем не менее, даже растворяясь в повседневной жизни, миф сохраняет значение, идентифицируемое примитивным человеком, поскольку миф формирует целостность мира, в которой каждый элемент находится в значимых отношениях с остальными элементами. На самом деле мифологическое сознание не является сознанием какой-либо вещи. Можно сказать, что в отношении субъективности оно представляет собой поток, который никогда не может остановиться и поэтому не может осознать самого себя. В отношении объекта мифологическое сознание не задает предварительные условия, сводимые к определенному количеству свойств, которые могут быть изолированы друг от друга, фактически сохраняя при этом присущие им взаимосвязи. Однако оно вообще не было бы сознанием чего-либо, если бы не возрождалось в каждой точке своей пульсации. Мифологическое сознание не существует вне своей ноэматики. Однако если оно исчезает вместе со своей ноэматикой и не предполагает предварительной объективации, оно не кристаллизуется в мифах. Мы пытаемся спасти мифологическое сознание от тех преждевременных рационализации, которые, как, например, у Конта, затемняют сущность мифа, поскольку рассматривают его как объяснение мира, предвосхищающее науку. Тем временем миф является проекцией существования и выражает специфику человеческого переживания. Понимание мифа нельзя отождествлять с верой в него. Истинность мифа не может быть установлена феноменологией мышления, демонстрирующей его роль в достижении осознания и обосновывающей в конечном счете его собственное значение и назначение, которое он имеет для философа. Подобным образом, в состоянии сна сновидение не идентифицируется как сновидение; если же я принимаю его в расчет, то это свидетельствует о том, что я нахожусь в состоянии бодрствования. В состоянии сна мы не утрачиваем мир, расположенный перед нами; и несмотря на то, что пространство сновидения изолируется или отделяется от пространства чистого мышления, оно использует все его артикуляции. Даже в течение сна мир продолжает преследовать нас, затрагивая тот мир, который нам снится. Точно так же действительный мир окружает мир безумного состояния. Однако невозможность полного обособления частной области за пределами фрагментов макрокосма совсем не обязательно рассматривать только на примере болезненных состояний, сновидений или состояний безумия. Можно сказать, что пограничные состояния, такие, как меланхолия или влечение к смерти, вырывающие из пребывания здесь, точно так же продолжают использовать структуры бытия-в-мире и заимствовать у них элементы бытия, совершенно необходимые в отношении его собственного отрицания. Эта связь между субъективностью и объективностью, которая существует уже в мифологическом сознании и сознании ребенка и сохраняется в сновидениях и состояниях безумия, должна быть обнаружена a fortiori, и в нормальном опыте. Я никогда полностью не пребываю в различных аспектах человеческого пространства; однако всегда изначально укоренен в естественном, не человеческом пространстве. Прогуливаясь по Place de la Concorde, я чувствую, как мной овладевает Париж. Мой взгляд останавливается на камне из стены Тюильри, парк незаметно выпадает из моего поля зрения, в котором ничего не остается кроме камня — камня, лишенного истории. Более того, мой взгляд может быть захвачен его желтизной, его песчаной поверхностью. В этом случае исчезает все, даже камень, а то, что остается, — игра света на неопределенной субстанции. Мое целостное восприятие не является результатом сложения отдельных восприятии, поскольку оно всегда способно раствориться в них. Благодаря привычке, тело обеспечивает мою включенность в человеческий мир. Это происходит только за счет проектирования меня внутрь естественного мира, который всегда находится в основании другого мира, подобно тому, как холст лежит в основании картины, делая возможным ее появление. Если и существует восприятие предмета желания в желании, предмета любви в любви, того, что составляет предмет ненависти в ненависти, то такое восприятие всегда формирует лишь незначительное окружение чувственных центров и всегда может быть обнаружено в чувственности, которая является его верификацией и отвечает за его полноту. Мы можем говорить о том, что пространство экзистенциально, а существование пространственно. Посредством своей внутренней необходимости существование открыто “внешнему” таким образом, что всегда есть возможность говорить о ментальном пространстве как о “мире значений и объектов мысли, которые конституируются с точки зрения этих значений”[79]. Человеческое пространство конституируется на основе естественного пространства. Оно не представляет собой, говоря языком Гуссерля, “объективирующие акты”[80], а основывается на них. Новизна феноменологии заключается не в отрицании единства опыта, а в обнаружений его иного основания, отличного от основания, существовавшего в классическом рационализме. Объективирующие акты не являются репрезентациями, а изначальное естественное пространство не есть геометрическое пространство. Единство опыта не обеспечивается некоторым универсальным мыслителем, априорно определяющим его содержание и гарантирующим то, что мое знание о нем исчерпывающее и я владею им в полной мере. Опыт предвосхищается горизонтами возможной объективации и освобождает от любого изолированного местоположения только потому, что он связывает меня с миром природы или миром в себе, который объемлет все возможные позиции. Мы должны найти способ, благодаря которому сможем, единым усилием и непосредственно, понять то, каким образом существование проектирует окружающие миры, которое, скрывая от меня объективность, в то же самое время стремится к ней как к цели, определяемой телеологией сознания, и выбирает эти “миры” на фоне одного-единственного естественного мира. Если мифы, сны и иллюзии возможны, то недостатки очевидности при восприятии реальности должны относиться не только к объекту, но и к субъекту. Часто утверждают, что сознание по определению не допускает разделения на явление и реальность, и с помощью этого пытаются доказать, что в нашем самосознании явление совпадает с реальностью. Если я осознаю, что нечто вижу или чувствую, то я, несомненно, это вижу или чувствую, независимо от того, что могло бы быть истинным в отношении внешнего объекта. В данном случае реальность выступает в своей сущности, а реальное бытие и явление суть одно и то же, и не существует иной реальности, отличающейся от явления. Если бы это было верным, то мы могли бы утверждать, что иллюзия и восприятие не отличаются друг от друга, мои иллюзии должны быть восприятиями имеющегося объекта, а мои восприятия — восприятиями реальных галлюцинаций. Истинность должна быть включена в восприятие, а ложность — в иллюзию, в качестве некоторой внутренней характеристики, в виде свидетельств других чувств, сопровождающих последующие стадии опыта, или других людей, но которые должны оставаться лишь вероятным и поэтому ненадежным критерием. Мы никогда не должны осознавать восприятие и иллюзию как таковые. Если целостное бытие моего восприятия и целостное бытие моей иллюзии определяются тем способом, с помощью которого они являются, тогда истинность, определяющая восприятие, и ложность, определяющая иллюзию, должны равным образом отличаться друг от друга. Следовательно, между ними будет существовать структурное различие. Истинное восприятие будет просто истинным восприятием. Иллюзия вообще не будет являться восприятием; а достижение очевидности должно быть связано с движением от восприятия как изначального факта видения и ощущения к восприятию как конституированию объекта. Прозрачность сознания обусловливает имманентную и абсолютную очевидность объекта. То же самое относится к природе иллюзии, когда она не осознается в качестве таковой; воспринимая нереальный объект, я с необходимостью должен обладать способностью, позволяющей утратить ощущение его нереальности. Однако должно оставаться, по крайней мере, неосознанное ощущение ложности восприятия, ощущение того, что иллюзия не является тем, чем она кажется, и что о реальности акта сознания можно говорить только за пределами этого явления. Должны ли мы в этом случае разделять явление и реальность внутри субъекта? Трудность заключается в том, что в какой-то момент между ними может возникнуть неустранимая брешь. Тогда самые ясные явления могут стать ошибочными, а разговор об истинности лишен смысла. Мы не стоим перед выбором между философией имманентного или рационализмом, который принимает в расчет только восприятия и истинность, и философией трансцендентного или абсурдного, принимающей в расчет только иллюзию и ошибку. Мы знаем, что ошибки существуют только потому, что истина уже изначально предполагается, и с ее помощью мы корректируем ошибки и идентифицируем их в качестве таковых. Точно так же эксплицитное осознание истины не сводится к простому существованию внутри нас неизменной идеи и нашей непосредственной веры в нее. Оно предполагает вопрошание, разрыв с непосредственной данностью и коррекцию любой возможной ошибки. Любая форма рационализма допускает, что существует хотя бы одно абсурдное положение, которое может быть сформулировано в виде тезиса. В любой философии абсурда за абсурдом признается хотя бы некоторое значение. Я могу находиться в состоянии абсурда только в том случае, если я приостанавливаю все суждения или, подобно Монтеню или шизофренику, нахожусь в состоянии такого вопрошания, при котором я даже не обязан формулировать вопрос, поскольку любой определенный вопрос должен подразумевать ответ. Другими словами, если я не нахожусь лицом к лицу с истиной или с ее отрицанием, а нахожусь вне истинности или в состоянии двусмысленности, то я сталкиваюсь с актуальной затемненностью своего существования. Таким образом, я остаюсь в сфере абсолютной самоочевидности только в том случае, если отказываюсь высказывать какие-либо утверждения или принимать нечто как гарантированное. Если же, как говорит Гуссерль, я нахожусь в состоянии удивления, которое вызвано окружающим миром[81], то выявляется поток мотивации, удерживающих меня в мире и характеризующих мою жизнь как эксплицитно осознанную. Пытаясь перейти от состояния вопрошания к состоянию утверждения и выразить себя a foruorl, я вычленяю неопределенную совокупность мотивов внутри акта сознания и возвращаюсь к имплицитному, то есть двусмысленному, и свободной игре мира[82]. Абсолютный контакт с самим собой, тождество бытия и явления невозможно установить сознательно, они могут быть только пережиты, поскольку предшествуют любому утверждению. Следовательно, и самоочевидность и абсурд в одинаковой степени невыразимы и пусты. Переживание абсурдности и переживание абсолютной самоочевидности взаимообусловлены и даже неразличимы. Абсурд проявляется в мире только в том случае, если от абсолютного сознания требуют непрерывной дифференциации тех значений, с которыми оно имеет дело, но, с другой стороны, это требование связано с конфликтом между самими значениями. Абсолютная самоочевидность и абсурд эквивалентны не только в качестве философских положений; в равной мере они эквивалентны и как переживания. Рационализм и скептицизм находят себе пищу в действительной жизни сознания, которую, несмотря на свой гиперкритицизм, принимают без доказательств и без которой их нельзя было бы не только принять, но даже понять. Относительно этой жизни невозможно сказать все имеет значение или все бессмысленно, можно сказать только то, что значение есть. Как говорил Паскаль, доктрины могут иметь изобилие противоречий, и, тем не менее, на первый взгляд производят впечатление ясности и значительности. Истина просматривается только на фоне абсурдности. Таким образом, абсурдность, которую телеология сознания намеревается перевести в истину, является первичным феноменом. Утверждение о том, что представление и реальность в сознании совпадают или, наоборот, являются различными, тождественно утверждению о том, что само сознание о чем-либо выпадает из рассмотрения даже в качестве представления. Такова подлинная природа cogito. Сознание нечто осознает, нечто демонстрирует себя; существует то, что называют феноменом. Сознание не полагает, но и не игнорирует само себя. Оно не скрыто от себя; а это значит, что в сознании — нет ничего такого, что не сообщало бы о себе определенным образом, даже при отсутствии потребности в явном осознании. Представление в сознании — не бытие, а феномен. Поскольку cogito предшествует установлению истины и ошибки, оно является условием их возможности. Жизнеспособно только то, что существует с моей помощью. Я не игнорирую подавленные чувства, и в этом смысле бессознательное не существует. Однако то, чем я способен наполнить свои переживания, не ограничено вещами, данными в представлении; мое бытие не сводится к тому, что проявлено эксплицитно и непосредственно меня затрагивает. То, что только жизнеспособно — амбивалентно; например чувства, не имеющие названия, или неподлинные состояния бытия, привычка к которым полностью не утрачена. Разница между иллюзией и восприятием внутренняя, и истина восприятия может быть прочитана только в том случае, если исходить из самого восприятия. Я могу обознаться; например, принять солнечный зайчик в отдалении за камень. Следовательно, нельзя сказать, что камень виден в том же смысле, в котором я должен был бы видеть пятно света, если бы подошел ближе. Камень, так же как и остальные вещи, находящиеся на расстоянии, появляется в поле смешанной структуры, в котором взаимосвязи явно еще не различимы. В этом смысле иллюзия, подобно образу, не наблюдаема. Это означает, что она пока не завладела моим телом, и я могу осознать и объяснить ее. Но, тем не менее, я способен этим пренебречь и впасть в иллюзию. Неверно было бы сказать, что ошибиться невозможно, а ощущения, по крайней мере, не оставляют места для сомнений, если ограничивать себя тем, что действительно видишь. Каждое ощущение уже несет в себе значение, зависящее от того, насколько ясен или темен его контекст. Чувственные данные изменяются в тот момент, когда я перехожу от восприятия иллюзорного камня к восприятию действительного пятна света. Если бы ощущения исключали ошибку, то безошибочными были бы и восприятия, а иллюзия была бы невозможна. Я вижу камень, который в действительности иллюзорен, в том смысле, что мое целостное перцептуальное и моторное поле закрепляют за солнечным зайчиком значение “камень на тропинке”, и я уже готовлюсь к тому, чтобы почувствовать под ногами его гладкую и твердую поверхность. Фактически невозможно отличить правильное восприятие от иллюзорного, если использовать способ, аналогичный тому, с помощью которого соответственно различаются адекватная и неадекватная мысль. Мое утверждение о правильности восприятия основывается на том, что тело находит определенную поддержку в зрительном поле. Однако это вовсе не означает, что подобная поддержка каким-либо образом охватывает все. Она была бы таковой только в том случае, если бы мое состояние сводилось только к состоянию артикулированного восприятия всех возможных в принципе внутренних и внешних горизонтов объекта. В переживании истинности восприятия я допускаю, что его адекватность может быть исследована более детально. Я начинаю доверять миру. Восприятие непосредственно привносит веру в целостность будущих переживании, но осуществляет это в настоящем, которое не дает абсолютных гарантий на будущее. Восприятие устанавливает веру в мир. Оно — обнаружение мира, который определяет возможность перцептуальной истины. Мир, таким образом, позволяет нам “вычеркнуть” предшествующую иллюзию, рассматривая ее как нереальную и пустую. Если боковым зрением я вдруг увидел, что будто бы большое тело движется в некотором отдалении, задевая края моего визуального поля, и концентрируюсь в этом направлении, фантазм отступает и занимает положенное ему место; это только что-то мелькнуло перед глазами. Я думал, что заметил тень, а сейчас понимаю, что это только мелькание. Я привержен миру, и это обеспечивает возможность вариаций в cogito, возможность предпочесть одно cogito другому и достичь истинности в мышлении за пределами представления. В каждый момент переживания иллюзии мне предоставлялась возможность коррекции, так как иллюзия, несмотря на то, что она противоположна устойчивому явлению, также основана на вере в мир и находится от нее в зависимости. Иллюзия не преграждает мне доступ к истине, поскольку бытие раскрывает горизонт возможных верификаций. Однако по этой же самой причине я не застрахован от ошибки, поскольку мир, который я стремлюсь постигнуть в каждом явлении и который наделяет явления обоснованно или не обоснованно определенным значением истины, не обеспечивает их необходимости.
Перевод В. А. Суровцева и Е. А. Наймана второй главы второй части книги М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия» выполнен по изданию: М. Merleau-Ponty Phenomenologie de la perception. — Paris: Gallimard, 1945. P. 281—344.
[1] Под классической концепцией интенциональности мы понимаем концепцию, которая представлена в Р. Lachieze-Rey L’ldealisme kantien, сходную с Кантовской, или концепцию Гуссерля, относящуюся ко второму периоду его философствования (период Идей). [2] Stratton, Some preliminary experiments on uision without inversion of the retinal image. [3] Stratton, Vision without inversion of the retinal image. [4] Такова, по крайней мере, имплицитная интерпретация Стрэттона. [5] Stratton, Some preliminary experiments, стр. 617. [6] Stratton, Vision without inversion, стр. 350. [7] Там же, стр. 346. [8] Stratton, The spatial harmony of touch and sight, стр. 492—505. [9] Там же. [10] Stratton, Some preliminary experiments, стр. 614. [11] Stratton, Vision without inversion, стр. 350. [12] Wertheimer, Experementelle Studien Uber das Sehen von Bewegung, стр. 258. [13] Там же, стр. 253. [14] Nagel, цитируется у Вертгеймера, там же, стр. 257. [15] La Strukture du Comportement, стр. 199. [16] Изменение направления в акустических феноменах чрезвычайно трудно осуществить. Если мы, с целью достижения псевдофонии, устраиваем так, чтобы звуки, идущие слева, достигали правого уха ранее, чем левого, мы получаем инверсию слухового поля, которая сравнима с инверсией зрительного поля, представленной экспериментом Страттона. Даже после долгих тренировок экспериментируемые не могут “скорректировать” слуховое поле. Только с помощью слуха местоположение источника звука, в конце концов, устанавливается неверно. Оно устанавливается корректно, и кажется, что звук исходит от источника слева только в том случае, если объект и слышим, и видим одновременно. Р. Т. Young, Auditory localization with acoustical transposition of the ears. [17] Экспериментируемый, в эксперименте со слуховой инверсией, может вызвать иллюзию корректной локализации в тот момент, когда он видит источник звука, именно потому, что он сдерживает слуховые феномены и “живет” визуальными данными. Р. Т. Young, там же. [18] Stratton, Vision without inversion, первый день эксперимента. Вертгеймер говорит о “визуальном вертиго” (Experimentelle Studien, стр. 257—259). Мы сохраняем вертикальное положение в физическом смысле не из-за устройства скелета и даже не в результате регуляции мышечного тонуса посредством нервной системы, а поскольку захвачены миром. Если подобная захваченность серьезно нарушена, тело разрушается и становится просто объектом. [19] Различие между глубиной вещей, находящихся в отношении ко мне, и расстоянием между двумя объектами устанавливается в Paliard, L’illusion de sinnsteden el le probleme de l’implication perceptive, стр. 400 и в Е. Straus, Vom Sinn der Sinne, стр. 267—269. [20] Malebranche, Recherche de la virile, книга 1, часть IX. [21] Там же. [22] Paliard, указанное сочинение, стр. 383. [23] Koffka, Some problems of space perception. Guilaume, Trails de psychologie, часть IX. [24] Другими словами, акт сознания может не иметь причины. Но мы предпочитаем не вводить понятие сознания, на которое заставляет обратить внимание гештальтпсихология, и которое мы, с нашей стороны, безоговорочно отвергаем. Мы будем придерживаться, с оговорками, понятия переживания. [25] Quercy, Etudes sur I'hallucination, 11, La clinique, стр. 154 и далее. [26] J. Gasquet, Cezanne, стр. 81. [27] Koffka, указанное сочинение, стр. 164 и далее. [28] Там же. [29] Глубина как пространственно-временное измерение впервые рассматривается в Straus, Vom Sinn der Sinne, стр. 302 и 306. [30] Husserl, см. Prusenzfeld, как оно определено в Zeitbewusstsein, стр. 32—35. [31] Там же. [32] Gelb и Goldstein, Uber den Wegfall der Wahrnehmung von Oberflachen-farben. [33] Wertheimer, Experimental Studien, Anhang, стр. 259—261. [34] Там же, стр. 212—214. [35] Там же, стр. 221—233. [36] Там же, стр. 254—255. [37] Там же, стр. 245. [38] Linke, Phanomenologie und Experiment in der Frage der Bewiegungsauffassung, стр. 653. [39] Там же, стр. 656—657. [40] Там же. [41] Там же, стр. 660. [42] Там же, стр. 661. [43] Wertheimer, указанное сочинение, стр. 227. [44] Идентичность движущегося объекта, говорит Вертгеймер, не является результатом предположения: “И здесь, и там это должен быть один и тот же объект” (там же, стр. 187). [45] В действительности, Вертгеймер не распространяется о том, что восприятие движения непосредственно включает восприятие идентичности. Он указывает на это только имплицитно, когда обвиняет интеллектуализм, соотносящий движение с суждением, задающим идентичность, которое “bliesst nicht direkt aus dem Eriebnis” (стр. 187). [46] Linke, при известных обстоятельствах, допускает (указанное сочинение, стр. 664—665), что предмет движения может быть не детерминирован (например, когда при стробоскопическом представлении треугольник трансформируется в круг), что объект в движении не обязательно должен устанавливаться эксплицитным актом восприятия, что в восприятии движения на него просто “со-нацелены”, что он “со-понимается” и что, наконец, идентичность движущегося объекта, подобно единству воспринимаемой вещи, осознается посредством категориального восприятия (Гуссерль), в котором категория действует на бессознательном уровне. Понятие категориального восприятия еще раз ставит под вопрос целостность предшествующего анализа. Поскольку Linke доходит до того, что включает не-тетическое сознание в восприятие движения, — то есть, как мы уже видели, он отвергает не только a priori как сущностную необходимость, но также и кантовское понятие синтеза — его работы соотносятся, и достаточно типично, с работами Гуссерля второго периода, в которых намечается переход от эйдетических методов или логицизма ранней стадии к экзистенциализму последнего периода. [47] Эту проблему невозможно поставить, оставаясь в рамках реализма (например, в рамках известного описания Бергсона). Многообразию вещей, рядоположенных внешним образом, Бергсон противопоставляет “сплавленное и взаимопроникающее многообразие” сознания. Он исходит из размытости и текучести сознания, как если бы оно было жидкостью, в которой растворены мгновения и позиции. В сознании он ищет элемент, действительно упраздняющий их рассеивание. Целостное действие моей руки демонстрирует пример движения, которое я не могу найти во внешнем пространстве, поскольку мое действие, рассмотренное в рамках внутренней жизни, раскрывает единство протяженности. Жизненный порыв, который Бергсон противопоставляет осмыслению, является для него опытом о “непосредственно данных”. Однако подобное решение неудовлетворительно. Пространство, движение и время невозможно прояснить с помощью раскрытия “внутреннего” пласта опыта, в котором их различия стираются и в действительности упраздняются. Это приводит к тому, что не остается ни пространства, ни движения, ни времени. Сознание моего жеста, если оно в самом деле является неделимым, больше вообще не является сознанием движения, но представляет собой непередаваемое состояние, которое ничего не может сказать нам о движении. Как говорил Кант, внешний опыт необходим для внутреннего опыта, который реально непередаваем, поскольку лишен содержания. Если, благодаря принципу непрерывности, прошлое все еще принадлежит настоящему, а настоящее уже в прошлом, нет никакого ни прошлого, ни настоящего. Если сознание накапливается как снежный ком, оно, подобно ему, всецело в настоящем. Если фазы движения постепенно поглощаются одна другой, нет никакого движения. Единство времени, пространства и движения не может образоваться через какое-либо объединение и не может быть осознано в каком-либо реальном действии. Если сознание является многообразием, кто тогда задает единство этого многообразия, для того, чтобы переживать его как таковое? Если сознание — это сплавливание, как оно приходит к осознанию многообразных моментов, которые оно сплавливает вместе? Вопреки Бергсоновскому реализму, кантовская идея синтеза кажется более уместной, и сознание как агент этого синтеза не должно ассоциироваться с любой вещью вообще, даже с жидкостью. То, что для нас первично и непосредственно, — это поток, который распространяется вовне подобно жидкости, но который, в деятельном смысле, порождает себя. Подобное порождение невозможно без явного осознания и стягивания в единое целое в самом этом акте самопорождения — этот акт “непроходящее время”, как где-то выразился Кант. Следовательно, единство движения для нас не является реальным единством. Однако оно не является и реальным многообразием. Как в кантовской идее синтеза, так и в навеянных Кантом текстах Гуссерля мы отвергаем то, что синтез предполагает, по крайней мере теоретически, действительное многообразие, которое сознание должно преодолеть. То, что выступает для нас как первичное сознание, не является трансцендентальным Эго, свободно полагающим до себя многообразие в себе и конституирующим его с начала и до конца. Первичное сознание — это Я, которое господствует над различием только посредством времени и для которого сама свобода является судьбой. Так, я никогда не осознаю бытия, абсолютно созидающего время и соединяющего движения, которые я переживаю. Я обладаю впечатлением, что оно и есть сама движущаяся сущность, изменяющая свои позиции и осуществляющая переход от одного мгновения или позиции к другим. Подобная относительность и предличность Я, обеспечивающая основу феноменам движения и феноменам действительности вообще, явно требует некоторого пояснения. Перейдем теперь к рассмотрению движения, оберегаемого нами от понятий синтеза и синопсиса, которое еще не нацелено на эксплицитное полагание различий. [48] Wertheimer, указанное сочинение, стр. 255—256. [49] Таким образом, представляется, что законы, управляющие феноменами, нуждаются в более точном установлении. В чем мы уверены, так это в том, что подобные законы существуют и что восприятие движения, даже когда оно является двусмысленным, непроизвольно и зависит от статичной точки. Ср. Dunke, Uber induzierte Bewegung. [50] Koffka, Perception, стр. 578. [51] Mayer-Gross и Stein, Uber einige Abanderungen dcr Sinnestatigkeit im Meskalinraush, стр. 375. [52] Там же, стр. 377. [53] Там же, стр. 381. [54] Fisher, Zeilslruktur und Schizophrenic, стр. 572. [55] Mayer-Gross и Stein, указанное сочинение, стр. 380. [56] Fischer, указанное сочинение, стр. 558—559. [57] Fischer, Raum-Zeltstruktur und Denkstorung in der Schizophrenic, стр. 247 и далее. [58] Fischer, Zeilslruklur und Schizophrenie, стр. 560. [59] “Шизофренические симптомы суть ничто иное как шаг к шизофренической личности”. Kronfeld, цитата по Fischer, Zur Kritik und Psychology des Raumlebens, стр. 61. [60] Minkowski, Le Temps vecu, стр. 394. [61] Binswanger, Traum und Existenz, стр. 674. [62] Binswanger, Uber Ideenflucht, стр. 78 и далее. [63] Minkowski, Les Notions de distance vecue et d'ampleur de la vie et leur application en psychopathologie. Cp. Le Temps vicu, часть VII. [64] “На улице нечто похожее на журчание полностью захватило его внимание; сходным образом, он чувствует, что его лишили свободы, как будто бы вокруг него всегда находятся люди; в кафе его охватывает дрожь, поскольку ему кажется, что нечто темное окружает его; голоса, особенно громкие, превращают атмосферу вокруг него в подобие огня, на сердце появляется тяжесть, и туман окутывает голову”. Minkowski, Le Probleme des hallucination et le problems de l'espace, стр. 69. [65] Там же. [66] Le Temps vicu, стр. 376. [67] Там же, стр. 379. [68] Там же, стр. 381. [69] Вот почему, вместе с Шелером (Idealismus-Realismus, стр. 298) можно сказать, что Ньютоновское пространство привносит “в сердце пустоту”. [70] Fischer, Zur Klinik und Psychologie des Raumerlebens, стр. 70. [71] Fischer, Raum-Zeitstruktur und Denkstorung in der Schizophrenie, стр. 253. [72] E. Straus, Vom Sinn der Sinne, стр. 290. [73] Например, можно показать, что эстетическое восприятие также открыто новой пространственности, что картина, как произведение искусства, не находится в том пространстве, в котором она присутствует как физическая вещь (раскрашенный холст). Точно так же, танец развертывается в нецентрированном и несориентированном пространстве. Танец приостанавливает нашу историю; в танце субъект и его мир более не находятся в оппозиции, один не служит фоном другому, части тела более не встроены в рельеф, как в естественном опыте. Туловище более не является основанием, из которого вырастают движения и в которое погружаются обратно преобразованными; оно управляет танцем, и в этом ему помогают движения членов. [74] Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, том 3, стр. 80. [75] Там же, стр. 82. [76] L. Binswanger, Das Raumproblem in der Psychopathologie, стр. 630. [77] Minkowski, Le Probleme des hallucinations et le probleme de l’espace, стр. 64. [78] Cassirer, указанное сочинение, стр. 80. [79] L. Binswanger, указанное сочинение, стр. 617. [80] Logische Untersuchungen, том 2, исследование 5, стр. 387 и далее. [81] Fink, Die phanomenologische Philosophie Husserls in der gegenwarligen Kritik, стр. 350. [82] Проблема выразимости упоминается у Финка, указанное сочинение, стр. 382.
|
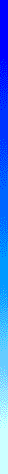
|


|

|
 77 Kb
77 Kb
|